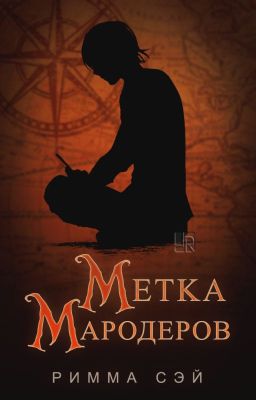Эпилог
I. Листья ложатся на алтарь осени
Осень в том году пришла рано и принесла на своих крыльях холода, дожди и вечно пасмурное беспросветное небо. Отдавая ей дань, природа накинула на себя прощальные яркие наряды: деревья оделись червонным золотом, багрянцем крови, рыжиной закатов – и ждали в пышном своём уборе, гибко склоняясь под ветром, скорого часа увядания и последующего за ним глубокого зимнего сна.
Побили нежданные заморозки часть урожая, и поля, на которых не окончена была уборка, выглядели тоскливо и пусто. По их бороздам скакали, теряясь в растительной поросли, птицы, перекликались крикливыми голосами, взметались стайками над примятыми волосами трав.
В городах судачили о будущей морозной зиме, кутались в тёплую одежду, ворчали на заволокшие небо тучи.
А вместе с синью облаков на небе сгущались, нехорошей краской наливались людские мысли. Пухло, зрело что-то на Востоке, повисшее над домами невидимой грозой, духотой душившее их – и вырвалось на исходе первых осенних месяцев; с красными листьями разметалась по дорогам алая кровь. Вновь пошёл на брата брат, брожение охватило массы; потекли в армию, в партизаны, в агитаторы, а скоро, как речка, выброшенная на камни порогов, с новой силой закипела успокоившаяся было гражданская война. И уже весной, когда ручьями слёз текли по щекам земли талые воды, добрались до Твинса наступающие части одной из сторон, рассыпались по забитому вылинявшему дворцу – и вскоре вернулись в него свет и люд, комнаты заполнили новые офицеры, председатели, главы ревкомов. Руками тыловых солдат разгребли сор, распечатали окна, впустив через пыльные их стёкла жмени солнечного света, растащили доски и обломки из самых пострадавших за годы войны и запустения залов. И вернулась под сень прежнего монаршего приюта власть, обличённая в совсем иные лозунги, лица и погоны.
«Зелёные» лесным пожаром метнулись через океан, в новые земли. На Западе, побушевав, не прижились, но вволю натешились на перешедших в их руки Альбинских, названных по раскинувшейся по ним цепи гор, островах – крупном архипелаге, залёгшим у южной оконечности континента. Восток, стряхнув их с себя, как пёс – блох, метался в агонии оставшейся лихорадки.
Южный континент, обособленный ото всех, огородился железным занавесом, окопался от заморских своих соседей и ни поддержки, ни порицания не бросал им в лица, глухо молчал, иглами выставив политические и экономические барьеры.
Но живут под сенью разгоравшихся междоусобиц тлеющие уголья прежде заведённых дел, не нашедших ещё исхода.
В столице Западного королевства, носящего давно отринутое всеми название Зарина, в городе Суходолье, дни напролёт расхаживает у окна кабинета, выслушивая доклады подчинённых и иногородних коллег, следователь без имени и возраста, с лицом, скрытым за скалящейся оголёнными зубами маской. Многие, не видевшие его, причисляют его к героям легенд, иные порицают за скрытность и затворничество. А он, не слушая ни тех, ни других, влачит к концу вверенное ему расследование, стежок за стежком сплетая его замысловатый узор. Он занят делом мародёров, многих из них уже повидал, перебрал не один отчёт по вершимым ими делам, лично прослушивал свидетелей, изобличая любителей лёгкой наживы, от нечего делать гуляющих по полицейским конторам. Он ещё молод, амбициозен и никак не хочет проиграть своему нематериальному, эфемерному пока врагу.
И ещё один человек в маске, тоже жуткой и нелепой, отвечает на его удары и атаки, не показывая лица и фигуры. Он ведёт за собой тех, кто уважает его, помня о других, лишь условно состоящих в подчинении и в жизни ни единого раза не видевших его. Он борется со своим тёзкой по маскам заочно; иногда шутя, иногда скрипя зубами от натуги, ведёт игру и, как и тот, другой, следователь, не желает отдавать этот раунд. Они никогда не видели друг друга даже мельком, и один не подозревает о существовании своего противника – и это вечно отбрасывает его на шаг назад, вынуждая работать вдвое быстрее, что пересечь финишную черту одновременно с оппонентом. У гонок без лиц свои правила: следи за чужими глазами, дружок, не забывай о собственных, ибо малейшая оплошность может тебе дорого обойтись. Здесь, в незримой, слепой борьбе, на кон поставлены жизни.
Столь же отчаянная борьба, но совсем иного рода разразилась среди белизной режущих глаза снегов ощерившегося еловыми макушками Севера. Чёрной тенью со страшной косой ходит по его просторам, выкашивая созревшие злаки жизней, болезнь, прозванная в народе «ведьминой». Она бьёт то в серёдку страны, то в тылы, расползается в морозном воздухе роем мошкары. Но и этот неусыпный палач начинает терять силы: всё глубже увязает он в намётанных метелью сугробах, всё тяжелее даётся шаг, отделяющий его от новой деревни. То ли пошла на спад сама болезнь, то ли теряет былую мощь она потому, что перекосила не одну сотню людей и теперь мало осталось тех, кто мог бы попасться ей под горячую руку. В бывшей столице, правда, да в селеньях у границы гуляет смутный слушок без начала и конца, будто найдено где-то лекарство, дарующее жизнь, заслоняющее щитом от смертоносной косы страшного заболевания. Кто-то в это верит, кто-то – нет, но слухи ходят, и как будто даже появляются те, на кого снизошло счастливое избавление. Они бродят по улицам, как единственный экспонат в музее собственной жизни, и всем напоказ выставляют руки: на каждой краснеется маленькая точечка, да расплывается иногда синеющий синяк от укола. Их мало, и в народе они давно уже прозваны пустобрехами. Впрочем, может, слишком торопятся люди, отгораживаясь от вестников возможного будущего исцеления от страшной заразы. Ведь, в конце концов, нет дыма без огня, верно?
Как бы то ни было, Север, ослабший и осунувшийся, слабой рукой уже заслоняет свои границы, и в этом помогает ему Запад, стремящийся зажать своего соседа, поверженного незримым убийцей, в оковы. На границе, как в былые времена, выставили патрули. Время от времени попадаются им в руки беглые северяне, ищущие иной, лучшей жизни; но их отсылают восвояси, так и не дав взглянуть за заветную, манящую приграничную черту. С Запада иногда пропускают добровольцев, делегатов и врачей, как вороны на падаль летящих в обескровленную, трупным запахом исходящую Империю. Да и тут не обошлось без одного казуса: перехватили однажды пограничники беглеца, искавшего пути в прежнюю столицу, Фортуну – город со счастливым названием, но несчастливой судьбой. Тот парнишка казался диким и странным: кожа его была изрезана пятнами, словно пролитой краской. Он что-то лопотал про своего отца и даже пытался грозиться – чем, правда, никто не запомнил. Парня прогнали взашей: решили, больной, когда осмотрели лицо, тронутые нездоровьем и в цвете и в выражении глаза. На Севере своей заразы хоть отбавляй, куда бедолагам подсовывать ещё одну неурядицу? Этот «хворый» на первых парах всё выделывал коленца, а затем сгинул. Думали, совсем уж запропастился, забыли даже – а он возьми да и объявись в порту: пытался на корабль пробраться, сначала сулил вознаграждение, потом, говорят, в поклаже, которую грузить собирались, схоронился, да стали тюки поднимать, верёвки слабые не выдержали, и полетел прохвост на пристань вместе с бочками и сетями.
Там этому чудаку руки и заломали и с тем отправили в санаторий на лечение – это, то есть, в тюрьме будни коротать, скуку наживать. Но парень оказался непотопляемым и уже через месяц щеголял помощником главы охраны – видать, подлизаться-таки сумел. Ходил барином, а случая в порту будто бы и не было. Очевидно, власть нового положения в голову хлынула, свысока на всех глядеть нашёптывала, а те, кто его злоключения знал, посмеивались в усы, в насмешку именуя «генералом над одной бочкой» и брезгливо – «выползнем». Посадили его, наконец, за бумаги, и стал он с тех пор лично выписывать штрафы и пропуска. И несколько лет спустя, когда восточные товарищи провели через порт линию телеграфа, стал принимать передаваемые по нему сводки, короткие сообщения и протоколы. И так случилось, что держал этот маленький человек теперь в руках великие слова, не произносимые человеком и вверенные машине, обращённые в рутину, поскольку от этих посланий зависели порой судьбы людей – таких же ничтожных и далёких, которых он не видел никогда. И те, кто знают его, опасаются его и презирают, скрывая ненависть за глянцем лиц.
Узнай же о сути новой должности бывшего беглеца ещё один человек, многими милями дорог и различий отделённый от него, быть может, иное вторглось бы и в его замедлившую обороты, выдохшуюся жизнь. Этот человек, прежде взявший на себя имя провидца будущего, державший в руках сотканный из сотен нитей мир, вплетённый в узор карт, ныне оказался их заложником, и путы судеб оплели его шею. Всегда сближенный с миром и грехами его, открытый, как одинокая ель в поле, всем ветрам жизненных перипетий, всё глубже уходит он в себя, опутываясь паутиной сомнений и разочарований и скоро, отрёкшись от тягот прежней жизни, позабыв язык старинных гаданий, готовится затушить огонь своей жизни в единой лампаде женского монастыря, издревле тянувшего костлявые руки к отчаявшимся и заблудшим душам.
Когда-нибудь остывшее тело будущей послушницы спустят по винтовой неприметной лестнице вниз, под белокаменные монастырские стены, где пахнущие гнилью и сыростью живут тоннели старых катакомб, не отмечаемые, как прежде, на новых картах. Там в нишах стен сходятся последние пути тех, чьи глаза закрылись навек, и за обителью мёртвых, в былые годы успевшей побывать и убежищем, и складом, и подземной, бессветной тюрьмой, наблюдают жёлто-белёсые черепа и сглаженные временем кости, вделанные в земляные участки стен для украшения и устрашения обывателя.
А между тем следы людей, ошибавшихся и исправлявшихся, бродивших умами и окоченевших мыслями, бедствующих и счастливых, заметали струями дождя, лавинами расплавленного золота медвяные и багряные, бурые, мохово-зелёные, крапчато-рыжие падучие листья, из-под которых, распрямляясь, ножами врезались в ситец небосвода влажно-чёрные древесные стволы. И, как проходят в свой черёд времена года, оставляя для будущих лет семена своих плодов, так приходили и уходили, червоточинами бороздя человеческие умы и души, новые настроения, веры и движения, несущие каждое свою правду и свою кабалу.
II. Воробьи снова летают
Невысокая гора, тут и там бугрящаяся выступами скальной породы, выползала из леса и возносила покрытые деревьями склоны в чуждую воздушную стихию.
На покатой, как лоб, верхушке крупный камень подходил к самому отвесному склону, неровными уступами спускавшемуся вниз. По бокам он оброс мягким и скользким тёмно-зелёным мхом, покрылся серебристо-белым лишайником. С него виден был город, раскинувшийся чуть впереди, вырастающий над окрестностями шпилями острых башен, звёздами и крестами церквей, металлически блестящей черепицей. Через город, отливая бликами рыбьей чешуи, несла свои воды река, стиснутая в оковах набережных, скованная переправами и мостами. В небе над домами и укрощённым потоком махрились синевой облака; понизу окрашенные в фиолетовый, вверху в серых оттенках, они походили на кисточку, окунувшуюся в краску не палитре.
Меж ветвей деревьев непривычно много было паутины – свидетельство нагрянувшего раньше срока бабьего лета. Серебристый её шёлк вился между стволов, ветвей и листьев, карабкался по зелёным низким кустикам черники и брусники. В центре каждого почти узора восседал, являя собой венец композиции, творец тонкого кружева – паук, ожидающий приглашённых на ужин мух. Стоило потревожить покой паутины, оборвать тонкие её нити, хозяин, мельтеша лапками, сбегал вниз, к земле, и вскоре принимался за создание новой ловчей сети.
Усеявший склоны горы лес оделся праздничным осенним багрянцем и золотом, пышно вознося хвальбы отцветающей своей красоте. Листья, яркие, цветные, пахнущие пряной духотой, ложились наземь, путались со своими родичами, ждавшими молодняк с прошлых зим. Ветер, тормоша ветви, играясь в листве, разносил по тропинкам осенние рыже-жёлтые духмяные метели, рябью засеивал воду в реке, вызванивал колоколами на высокой городской колокольне. Из-за проносившихся по небу налитых предгрозовой синью громад туч подмигивало, золотя лучами влажноватую листву и мох, яркое, добела накалённое холодное солнце.
На камне у обрыва сидели двое. Опершись на его мохнатую ото мха поверхность, греясь в слабых солнечных лучах, как змеи стремясь вобрать от камня и светила тепло, глядели на рыжевший крышами, блестевший куполами город и дальше, за него, где синелись угольчатые пояса елового холмистого леса.
– Надеюсь, ты станешь достойной заменой, – сказал первый человек. Его лицо было скрыто за маской, глядевшей на мир швами и оголёнными зубами челюстей черепа; в прорезях, снаружи обведённых тёмными кругами глазниц, поблёскивали живые синие глаза.
– Каким он был? – после короткого молчания спросил второй, так и не проронив ни слова в ответ на чаянья первого. – Первый Мор? – он, отвернувшись, смотрел правее города, где река, разделяясь на два рукава, лизала залитый вперемежку алой и жёлтой листвой, зеленью хвои высоких стройных сосен, рыжиной стволов, блестящих на солнце, островок суши.
– Трудно так вдруг ответить, – донёсся из-за желтокостной маски ответ. Её обладатель, одной рукой позади себя упершись в твердь камня, другой притянул к груди колено, пристроил на нём подбородок. – Думаю, его можно было назвать исполнительным, трезвым и очень честным.
– Тогда жаль, что его пришлось сменить, – задумчиво отозвался второй, всё буравя глазами рвущий землю разделяющийся поток.
– Жаль, – согласился первый. И, помолчав, добавил голосом, как будто скрывающим улыбку: – Зато теперь мы все снова в сборе, нас опять четверо. Правда, думаю, неплохо было бы включить в наше маленькое собрание и Инквизицию: уж больно она свирепствует в последнее время. Тогда кузовок был бы полон.
Его собеседник не улыбнулся шутке, отстранённо кивнул в ответ:
– Думаете, теперь всё наладится?
– Я же просил без церемоний. Мы теперь равны.
– Ладно. Просто непривычно пока... И всё же?
– Не знаю. Наши сейчас затаились, а мы плетём сеть... – человек в маске помолчал, одними глазами повернулся к небу, взглядом проводил бегущее мимо овечье стадо туч. – Скоро будет гроза, – как бы между прочим произнёс он. – Парит, да и тучи сгущаются.
– Про нас, пожалуй, тоже так можно сказать, – отозвался второй, переводя взгляд на острые иглы шпилей, чернеющиеся у подножья горы, выстреливающие над деревьями и рекой.
– Тебя сегодня тянет на поэзию? – одними синими топями глаз усмехнулся первый.
– Наверное, это всё осень, – и снова воцарилось молчание, не тяжёлое, не гнетущее, а приятное, по-осеннему дружеское, почти уютное.
Облака с неба переваливали реку, в которой опрокинулся блестящим, колышущимся полотнищем город. В небе пронзительно крикнула, расправляя могучие крылья, хищная птица и, паря, воздушным змеем повисла в мареве фиолетово-серых туч.
– Держи, – вдруг тихо, задумчиво-сонно произнёс человек, внутренность черепа извлекший наружу маской, протянул своему спутнику обёрнутый чёрным платком свёрток. Тот молча принял его, немного помедлив, расправил платок, без удивления глянул на его содержимое, нахмурился.
– Мне теперь всегда нужно её носить?
– Зачем же всегда? Только в нашем собрании.
– Если нужно, чтобы никто не знал моего лица, почему его... видел ты?
Носитель маски повернулся к собеседнику, бесинкой блеснула синева радужки:
– Я ведь не «никто». Назовём это частным случаем.
Спутник его кивнул, глядя на замершую на чёрной ткани платка маску иного, чем у передавшего свёрток, кроя. Блестели на ней полупрозрачными округлыми линзами глаза, чернели швы, выступал, глядя на нового обладателя, не слишком большой, массивный, похожий на птичий клюв.
– Волнуешься? – снова подал голос первый, наблюдая за вторым.
– Как море в штиль.
– И правильно, – и снова немного помолчали, глядя вдаль.
– Почему тебя зовут Смертью? – вдруг с детским любопытством поинтересовался новоиспечённый Мор, не отрывая от чёрной на чёрном платке маски взгляда.
– Потому, – скромно ответил Смерть, – что я вершу людские судьбы.
Они оба снова обратили взоры к крошечному, игрушечному городку, впаянному в самоцвет лесного массива, к прорезавшей его своевольно-послушной реке.
Кругом, перебирая золотые локоны деревьев, балуясь красными лентами ветвей, играя просмоленной хвоей, жил ветер. На сплетённой над камнем у обрыва тонкой пряже паутины, расцвеченной радугой задержавшихся на белёсых нитях капель, качался под ветром паук с расчерченной белыми крапинами в крест спиной, скрёб передними лапками друг о друга и влажно блестел бесстрастными чёрными ониксами глаз.