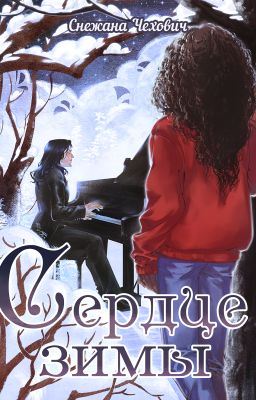Глава 1. Добро пожаловать в Эш-Гроув. 6
6. Там же, за старым спортзалом, я познакомилась с Ронни.
В прошлой школе (и вообще по жизни) я была лишь сторонним наблюдателем, охваченным невыразимой, всепоглощающей скукой. Я вовсе не была отшельницей, чурающейся любого общества, да и общество меня не отторгало, но научиться получать удовольствие от социального взаимодействия у меня не получалось. Поэтому, когда Ронни, пришедший покурить, молча предложил мне один наушник, я взяла его рефлекторно, а не из желания приобщиться к чужим интересам.
Музыка Ронни оказалась отвратительной. Мрачная, густая и липкая, она затекала в ухо, расплывалась по плечам непонятной тяжестью и оставляла после себя странное чувство опустошённости.
— Это The Cure, — сказал он, когда я, вздёрнув брови, поинтересовалась, что за аудио-изнасилование только что пережила. — Ничего, со временем дорастёшь до них.
— Или деградирую до них.
Ронни не обиделся. Напротив: будто бы воодушевился моим отвращением. И с тех пор мы часто курили вдвоём под заунывно-истеричные стенания Роберта Смита.
— Твой отец работает сейчас над чем-нибудь? — спросил как-то Ронни, прикрывая от ветра огонёк зажигалки в попытке закурить. Долговязый и широкоплечий, весь одетый в чёрное, с чёрными же волосами, неаккуратно падающими на лицо и плечи, с крупным, похожим на клюв носом, Ронни напоминал грача, который стащил где-то сигарету и держал её теперь в длинных костистых пальцах.
— Нет, — ответила я. Прошёл ровно месяц с момента нашего переезда, а отец всё так же прорастал корнями в кровать, по ночам меняющуюся на кухонный стул. — Он типа в депрессии.
— Жаль. Я все его фильмы смотрел. Последний — раз пятнадцать.
— Ты про ту хрень, что с треском провалилась в прокате?
Вообще-то, все отцовские фильмы казались мне хренью, но говорить об этом вслух у нас в семье не разрешалось. Для меня мама была самым жёстким и беспощадным критиком, однако хрупкую самооценку отца она самоотверженно берегла.
— Да не, — ответил Ронни. — Фильм крутой. То есть, вот прям реально крутой. Ну да, я знаю, что критики засрали, но этих чаек хлебом не корми, дай заклевать. Когда мы состаримся, именно этот фильм станет культовым, вот увидишь.
— «Когда»? — Налетел ветер, и я отвернулась к стене, чтобы пыль и пепел не попали в лицо. — Для того, кто выглядит так, словно сбежал с похорон, ты слишком оптимистичен. Я бы сказала: «если».
— Это всё стереотипы, — отмахнулся Ронни. — Лично я собираюсь бесить людей своим существованием как можно дольше. Тот свет подождёт.
Он хрипло засмеялся. У него был интересный, по-своему красивый голос, но вот смех напоминал грачиное карканье.
Тучи тянулись от самого горизонта и наползали на здание школы, сквозь редкие прорехи сочился солнечный свет. Лопухи и трава между ними были влажными от росы, кое-где виднелись первые опавшие листья. Было сыро и душно, пахло осенью. Накрапывал мелкий дождь.
— У вас репетиция в пять? — спросил Ронни, резко меняя тему.
— Репетиция? — переспросила я, а потом вспомнила: — А, да. Откуда ты знаешь?
Ронни неопределённо пожал плечами.
— Зачем ты туда ходишь? Там же сплошные снобы.
— Ты тоже сноб.
— У меня есть повод быть снобом — мой идеальный музыкальный вкус. Но серьёзно — на фига? У тебя радости на лице — ноль.
— Маме нужно, чтобы я имела хоть какое-то отношение к театру. Любое. Это мамина Идея-Фикс.
Школьный театр — неизбежное зло, за которым стояла мама. «Ты непременно должна записаться», — настаивала она каждое утро и каждый вечер с таким упорством, словно от этого зависело будущее нашей семьи. А потом, поняв, что никуда я записываться не собираюсь, пришла в школу и, отыскав руководителя кружка, сделала это сама. Мне она сообщила об этом за ужином.
Школьный театр был ужасен. Девочки и мальчики, преисполненные вдохновения и чувства собственной значимости, разучивали пьесы Шекспира, шили костюмы, мастерили декорации, выпендривались и шумно бесились, и на этом празднике деятельности я была лишней, будто бы заглянувшей по ошибке в чужой мир. В предыдущей школе мне тоже приходилось посещать театральный кружок, и это был сущий кошмар. В табуретке больше актёрского таланта, чем во мне, но маме было приятно, что её дочь приобщается к искусству — хотя бы таким способом. И она искренне верила, что однажды я раскроюсь и заблистаю на сцене.
Смешно.
Наверное, будь во мне хоть капля интереса, хоть толика фантазии, ради мамы я могла бы постараться. Но проблема заключалась в том, что, надевая костюмы, сшитые из дешёвых тканей, я видела в себе Амару Драйден в костюмах из дешёвых тканей. «Волшебство перевоплощения» было нудным, унылым времяпрепровождением. Вырядившись в цветастые тряпки и выучив несколько реплик, я не становилась леди Макбет. Да и не хотела я быть ни этой леди Макбет, ни любым другим героем классических пьес. Я хотела быть собой. Но какой именно — это мне тоже было недоступно.
— Твои предки к тебе не лезут с таким? — спросила я, туша сигарету о выщербленный кирпич в стене.
— Не-а. Они нормальные. Нет, серьёзно, — добавил Ронни, заметив мой скептический взгляд. — Прям нормальные. Отец знает, что я курю, знает, чем занимаюсь после школы. Всё разрешает. И его жена тоже не особо ко мне лезет — ворчит из-за не помытой посуды, а в остальном ей всё равно.
— Приходи на спектакль в декабре. Ударная доза животворящего кринжа гарантирована.
— А вот приду, — ответил он, следом за мной избавляясь от сигареты. — Буду хвататься за сердце и громко причитать, что в тебе невероятный драматический талант. — И прежде, чем я успела ответить, он спросил: — Ты уже была в Ясеневом парке?
Как всегда — внезапно и без перехода. Теперь-то я привыкла к этой его манере разговора зигзагом, но в первые дни мне становилось немного неловко. На самом деле Ронни просто всегда был полон мыслей, идей и стремлений, и этот магический суп плескался из него во все стороны. Где уж тут довести разговор до логического завершения, если мысли ускакали на миллион световых лет вперёд? Кажется, он и сам за собой порой не поспевал.
— Нет. Только видела на старых папиных фотографиях.
— Как так? Сколько ты тут уже живёшь, и не сходила посмотреть на главную достопримечательность Эш-Гроува?
Я неопределённо хмыкнула.
— На что смотреть-то? На разбитые фонари? Папа сказал, он уже много лет как заброшен.
— Да, заброшен. Но в этом-то и суть! Ты просто не представляешь, что это за место. Поверь: оно тебя сожрёт. Поглотит всю, без остатка, и ты не сможешь без него жить.
Я покачала головой, но спорить не стала.
Наша дружба — то, как она складывалась, — напоминала каток, настолько плавно и легко происходили любые повороты. Ронни не навязывался, однако каким-то неведомым образом постоянно оказывался рядом. Мы сталкивались в коридорах, в спортзале, в столовой, и он просто ни с того ни с сего начинал говорить в этой своей странной манере, будто бы продолжая прерванный ранее диалог. Говорил он преимущественно о музыке и кино, то есть, о том, в чём я совершенно не разбиралась. Я не знала старых готик-рок-групп, по которым фанател Ронни, не знала фильмов восьмидесятых и девяностых, которые он боготворил. Общих тем для разговоров у нас практически не было — школа, разве что, — и друг для друга мы должны были быть скорее скучны, чем интересны, однако Ронни будто не замечал, насколько параллельны наши миры. Ещё у него была привычка непредсказуемо замолкать, обрывая себя на полуслове, и тогда повисала пауза, которую Ронни заполнял музыкой, безапелляционно протягивая мне наушник.
— Надеюсь, ты не занята в пятницу, — сказал он, вырывая меня из раздумий.
— А что?
Но Ронни, уже не слушая, направился прочь через море мшисто-зелёных листьев репейника.
Я щелчком пальцев отправила затушенный окурок в полёт и взяла в рот пару вишнёвых леденцов, которые всегда таскала с собой в кармане. Этим вечером Винус уезжает, и между мной и родителями не останется никакого буфера. Маме будет не на ком срывать своё недовольство, некому будет тормошить отца.
Он совсем ушёл в себя и ни с кем не общался, а все его занятия крутились вокруг ноутбука, с которого он смотрел бесконечные видеоролики, нацепив большие наушники с синей подсветкой. Спускаться к завтраку, обеду и ужину он перестал, и маме приходилось относить еду наверх. Он ел, не вставая с постели, а я забирала грязные тарелки. Иногда мне начинало казаться, что отец не выберется из этого состояния и навсегда останется безынициативным овощем. Иногда во мне крепла уверенность, что он просто придуривается и ищет способы избежать очередных карьерных неудач.
А может, верны были оба варианта, и он навсегда останется безынициативным овощем, ищущим способы избежать очередных карьерных неудач, и всё, что мне останется — это бесконечное мытьё чёртовых тарелок.
Частенько я пыталась представить, каково это — быть замужем за таким человеком, как отец: тащить на себе всю семью, стойко сносить перепады чужого настроения, терпеть творческие кризисы и нежелание с ними бороться. Потом я начинала представлять, каково это — быть женатым на такой женщине, как мама: слушать бесконечные упрёки, делать всё в строгом согласовании с её желаниями, подчиняться её распорядкам и не иметь права шагнуть в ту или иную сторону.
Вывод напрашивался сам собой: мать с отцом были друг с другом абсолютно несовместимы.