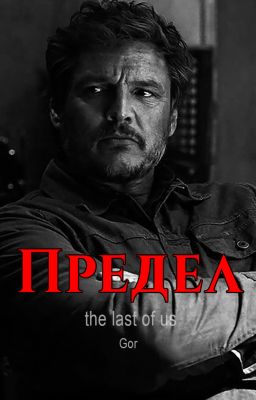III Глава 82: Изгнание
С ночного неба срывались капли дождя, били по крыше машины, оставляя рваные косые линии-штрихи на стекле. Я смотрела на слабый огонёк в фитиле фонаря — его держал человек, стоявший под навесом на крыльце, укрываясь от дождя.
Меня привезли в деревню ночью. Роф зашёл в комнату и коротко сказал, что нужно срочно выходить. Я не сопротивлялась. Меня с ребёнком тихо провели по чёрной лестнице и вывели из здания. Я бросила последний взгляд на окна, надеясь увидеть там его. Но чёрные стёкла в чёрной ночи не отражали ничего. Больше я не смотрела.
Очертания деревни под проливным дождём смазывались, словно тёмно-серая, мутная акварель на мокрой бумаге, но мне и не было интересно. Внутри меня была пустота.
— Поживёшь пока здесь, — голос Рофа слышится как-будто издалека. — Деревня безопасная. Население сто тридцать человек. Тебе с ребёнком выделят отдельную комнату в общежитии. За главного здесь Баркас. Утром он даст тебе работу.
Из рации у Рофа послышалось шипение, а потом тот самый голос сказал:
— Приём.
Мужчина взял рацию в руки, нажал кнопку и коротко ответил:
— Приём.
— Ты довёз её? Доложи, — в голосе Джоэла слышалось нетерпение.
— Да. Всё в порядке, — ответил Роф, бросив на меня короткий взгляд с переднего сиденья.
— Отбой.
Рация замолкла.
В салоне повисло напряжение. Дворники лениво скребли по лобовому стеклу, оставляя неровные полосы в потоках дождя. И мне так не хотелось дотрагиваться до ручки двери и выходить из машины. Это ощущалось настоящим концом.
Роф выглядел огромным, опасным — первоклассный убийца. Но в его глазах читалась расчётливая, холодная умная сила. Я знала: Джоэл никогда бы не доверил ему руководство целым штатом без причины. И сейчас Роф хотел, чтобы я вышла. Моё присутствие его тяготило. Но он не торопил меня, не выгонял. Сохранял уважение. Мы оба молчали. Потом я начала говорить для себя, не для него:
— Скоро мне должно исполниться двадцать три года. Много это или мало для павшего мира, где люди умирают пачками или вовсе не рождаются? Я не знаю. Пожалуй, много. За свою жизнь я испытала всё самое страшное, многие грани боли...
Я поцеловала тёплый лобик сына, мирно спящего у меня на руках.
— Смерть родных и друзей — убитых у меня на глазах, предательство отца — дважды, болезнь, похищение, избиения, унижения, моральное насилие, голод, холод, я не раз была на волосок от смерти, как и мой ребёнок до его рождения и после. Пытки — меня ломали. Принуждение к предательству. Изоляция — месяцы одиночества, когда некому было даже сказать, что я ещё жива. И снова — крах каждой надежды.
— Но была ещё одна грань боли, не менее мучительная, чем всё остальное...
Она била нещадно — стать никем для того, кто когда-то говорил тебе о любви, стать никем для своего мужа, для отца своего ребенка — закончила я уже мысленно.
— Роф, я сказала ему уже всё, что могла. Но есть две вещи, очень важные, которые он так и не услышал. И они не касаются наших отношений — здесь уже всё ясно, — огонёк в фонарике всё так же мигал, человек на ступеньках всё так же ждал. — Это касается моего отца и сына. Я не собираюсь оскорблять Джоэла — я никогда этого не делала. И не буду злить его намеренно. Я знаю, я не могу ни приказывать тебе, ни просить...
Роф повернул голову в пол-оборота. Всё это время он слушал внимательно. Ни раздражения, ни усталости в нём не было. Только сдержанная концентрация. Его профиль — резкий, сильный. Чуть седоватая, аккуратно уложенная, длинная борода. Руки в чёрных перчатках спокойно лежали на руле.
— Но... я хочу сказать ему кое-что ещё. Последнее. Пожалуйста. Оставайся в машине. Не выходи, если хочешь. Если что — вырвешь у меня рацию в любую секунду. Просто... дай мне возможность сказать ему финальное слово. Не ради прощания. У нас оно уже было.
— Приём, — коротко вызвал Роф в рацию.
— Спасибо тебе... — шепнула я. Не знаю, почему он согласился. Но он делал это для меня. Удивительный человек.
— Приём. Я здесь, — тут же отозвался голос.
Роф обернулся ко мне:
— Знаешь, как пользоваться? — Он показал. — Зажимаешь эту кнопку — говоришь. Сказала — сразу отпускаешь. Иначе его не услышишь. Без зажатой кнопки он тебя не слышит.
— Роф, твою мать, говори! Не молчи! Что-то случилось?! — голос Джоэла очень тревожный.
— Я выйду покурить, — сказал Роф, передавая мне рацию. И вышел под дождь, направляясь к крыльцу, где тускло дрожал огонёк.
Я нажала на кнопку.
— Джоэл, это Селена.
Отпустила. С той стороны шипение. Но я знаю — он слышал. Несколько секунд прошли. Он не ответил. Палец на кнопке.
— Если когда-нибудь Томми захочет узнать где я, не препятствуй этому. Скажи ему. Ты лишил меня себя. Но не лишай меня отца. Это будет слишком жестоко, даже для тебя.
Только треск рации в ответ, и за ним — напряжённое молчание.
— Я так хотела возненавидеть тебя за то, что ты не понял, не почувствовал, не увидел... но не смогла. Я люблю тебя и это будет моим наказанием. А твоё — будет куда больнее. И знаешь... ты ведь ни разу не спросил, как зовут сына. Его зовут в честь его отца — Джоэл. Чем дальше ты будешь от нас, тем лучше. Никогда больше не появляйся в нашей жизни. Отбой.
Я не ждала, что сквозь шипение покажется его голос. Я положила рацию на переднее сиденье и вышла с ребёнком под дождь, к огоньку.
***
Стебли кукурузы резали руки. Пот стекал по спине, собираясь в липкие дорожки под сарафаном. Волосы были убраны в тугой пучок и спрятаны под косынку. Я собирала початки в корзину, работая быстро, чтобы не думать. От высоких стеблей падала тень, но лицо всё равно обжигало солнце — тень была зыбкой, почти бесполезной.
Сын лежал у меня на груди. Я сделала из плотной ткани сумку — нечто вроде старого кенгуру — и носила его всегда с собой.
Я работала молча, иногда тихо напевала ему песни. Но от этих песен становилось так грустно, что хотелось плакать. Поэтому пела ему только в комнате или у озера — там, где не было лишних глаз.
Сквозь высокие стебли кукурузы показалось загорелое лицо парня. В общей массе я не помнила, кого как зовут — не из пренебрежения, а потому что мне было всё равно. Весь мой мир был мой сын.
— А правда, что тебя тогда на джипе привезли? — спросил парень с явным интересом в живых глазах. — С тобой ещё был бородатый мужик. Он ведь из военных...
Я ничего не ответила. Продолжала работать.
— Пыф! Королева нашлась, — донесся голос из-за соседних стеблей.
Это была Лесли. Её имя я запомнила, потому что именно она выдавала нам работу и с невероятной дотошностью проверяла, как мы её выполнили.
— С кукурузой на сегодня всё, — она смерила мою корзину прищуром. Чуть седоватые волосы были уложены в тугую косу, обмотанную вокруг головы. — Отнеси корзину и иди мыть овощи.
Она бы с радостью до меня докопалась, да только не к чему. Я работала. Не из-за страха получить наказание или выговор от главы деревни — страх во мне умер давно. Я работала потому, что теперь жила ради сына.
Я молча подняла тяжёлую корзину, прижала её к боку и пошла по протоптанной тропинке через поле кукурузы к деревне.
Маленькие домики можно было бы даже назвать милыми. Люди сновали туда-сюда, каждый был занят своим делом. Я выгрузила кукурузу на кухне — для заготовок на следующий год — и направилась к озеру, где на берегу, в специальном месте, похожем на беседку, уже лежали два мешка овощей.
Первым делом я обмыла ноги в прохладной воде. Они гудели после многих часов стояния. Вода снимала напряжение и приятно холодила кожу. Быстро помыла ребёнка, сменила тряпочку под ним. Чистую всегда носила с собой — в карманах или в сумке.
Я любила эти моменты у озера. Вода, сын... И чудесный запах прелой воды, тонкая сладость шиповника и горькая свежесть осоки.
— Что, прохлаждаемся? — донеслось сверху. На пригорке стояла Лесли, уперев руки в бока. Местное гестапо. — Это вам, дамочка, не курорт. Быстро за работу. Потом полы в столовой помоешь.
Я кивнула и принялась за мытьё овощей. Она постояла надо мной какое-то время, словно проверяя, не посмею ли ослушаться, потом ушла. Она тоже много работала. Занималась скотом.
***
И так проходили дни. Я их не считала и ничего не ждала.
Деревня Блю Лэйк действительно казалась безопасной. Она пряталась в горах, в глуши, за крепким забором. Даже свои "военные" здесь были — мужчины, которые дежурили на вышках и смотрели по сторонам во все глаза. У каждого было своё дело. Я, как и большинство, работала в поле. А ещё — посменно убирала: мыла полы в столовой и два общественных туалета.
Меня поставили на это сразу по прибытии. Баркас сказал:
— Все новенькие через это проходят. Не вздумай нос задирать. Ты — как все.
Я спокойно взяла ведро, швабру и вымыла загаженную уборную, в которой они жили всё это время. Потому что убирать грязь — не стыдно, стыдно жить в грязи *.
***
В столовой, после ужина, когда все разошлись, я мыла посуду, щёткой терла пригоревшую кашу со дна кастрюли. Рядом щебетали девушки — те, что сегодня тоже дежурили со мной. Раньше они пытались со мной подружиться, но, видя моё равнодушие, быстро оставили эти попытки.
Баркас зашёл в столовую, окинул взглядом посуду, полы, столы. На этот раз он выглядел довольным. Хотя обычно всегда орал и жаловался. Однажды даже запустил в меня куском мыла за то, что, по его мнению, я слишком щедро его расходовала.
— Экономнее надо! Поняла?! — тогда орал он. — Из каких таких графств ты к нам прибыла, что не знаешь, что мыло у нас — пиздец какая роскошь! Мы тебе не буржуи! Запаса промышленной щёлочи у нас нет! Топим сало, которое могли бы сами съесть, детей накормить. А мы из него мыло делаем. А потом щёлочь природную вымачиваем неделями. А она что? Льёт, как барыня! — Он почти брызгал слюной. — Надо щёткой тереть усерднее, а не мылить. Работать надо, а не жалеть свои нежные ручки! Что смотришь? Заплачь ещё мне тут! Мыло подбери! Немедленно!
С тех пор я была экономнее. Но это не спасло от боли. Щёлочь разъедала кожу. Щётка сдирала её до волдырей и кровавых мозолей.
Для Джоэла я соорудила что-то вроде люльки: взяла старый ящик из курятника, вычистила его в озере, набила свежей соломой — и он лежал там, глядя на меня своими круглыми глазами. Следил, как я работаю, угукал, брыкал ножками. Я бросала на него взгляды и подмигивала ему.
Двумя пальцами я подцепила пузырьки с края таза и сдула их. Он ловил их пальчиками и смеялся, а у меня от его беззубой улыбки и этих звуков всё внутри сжималось. Любовь к своему ребёнку — чувство, которое не поддаётся никакому описанию.
***
Баркас вошёл в мою комнату без стука — на правах хозяина. Окинул взглядом серые деревянные стены, на лице его скользнула какая-то взволнованная озабоченность.
— Я тут это... тебе кое-что принёс, — сказал он.
В руках у него был маленький прозрачный пакетик с засушенными травами.
— У тебя, что ли, бессонница? — спросил он. — А чего молчала?
Я не стала спрашивать, откуда он об этом знает. Это было странно. Никто не мог знать. Я жила в своей каморке одна.
— Потому что это мелкая проблема, — спокойно ответила я. — Я не болею и не умираю. Просто плохо сплю. Я посчитала это неважным.
Он положил пакетик на стол и странно на меня посмотрел.
— Это специальный чай. Успокаивает хорошо. Я сам одно время пил. Раньше бы принёс, да трав не было. Пацаны в лес сгоняли, вместе с Лесли, набрали, что нужно. Пей и полегчает.
— Благодарю, — неуверенно сказала я, запнувшись. — Чем я это заслужила?
Баркас почесал затылок под чёрной шевелюрой и отвёл мутный взгляд в сторону.
— Тебе же здесь нормально? Ну никто не достаёт же?
— Да. Всё нормально.
— Ну и хорошо, — буркнул он и поспешил выйти.
В ту ночь, выпив травяной настой, я впервые за долгое время уснула спокойно. Из приоткрытого окна тянуло запахом прелой воды, тонкой сладостью шиповника и горькой свежестью осоки.
_____________________________
* Слова из замечательной книги Ольги Сергеевны Муравьевой "Как воспитывали русского дворянина".
"В конце 1940-х годов на одной из постоянных баз геологических экспедиций был исключительно грязный общественный туалет. Но, разумеется, не это, привычное для всех, обстоятельство привлекало всеобщее внимание, а то, что на базу в составе одной из экспедиций, должен был приехать потомок древнего княжеского рода. "Мы то, ладно, потерпим, — шутили геологи, — но что будет делать Его светлось?" "Его светлость", приехав, сделал то, что многих обескуражило: спокойно взял ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл загаженную уборную...
Это и был поступок истинного аристократа, твердо знающего, что убирать грязь — не стыдно, стыдно жить в грязи."