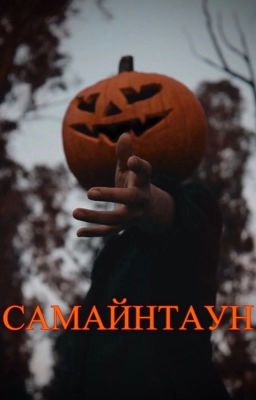Бонусная глава. Олененок
В ту пору, когда Титания и ее дети были не особо голодны, Неблагой двор разжигал костер посреди площади из алых роз и белого камня, — прямо под костром тем, что распаляло на горизонте Волшебной Страны заходящее солнце, — и вместе они собирались вокруг него, чтобы немного поиграть со своей едой. На носочках Титания медленно подходила к будущей пище, брыкающейся в коконе из ее чернильных волос, изумрудных шипастых лоз и паучьих серебряных нитей, задирала вверх голову, выгибала вперед голую налитую грудь и спрашивала вполголоса:
— Что всегда идет и не заканчивается, имеет две личины, но тем, кого повстречает, дарит лишь один венец?
К сожалению, еда каждый раз одинаково молчала и бестолково таращила на нее и ее хихикающих детей глаза. Тогда Титания неизбежно добавляла, чтобы подбодрить, вселить уверенность: «Ответишь — отпущу». Конечно, на самом деле она никого и никогда не отпускала. И не только потому, что иначе ее дети остались бы без ужина, но и потому, что никто ни разу так и не ответил верно на ее загадку. «Неужто она настолько сложная?» — сокрушалась Тита. Неужели никто из этих мужчин не спрашивал себя, зачем и почему он оказался здесь? Разве это не они наступали на ее сонные цветы, вкушали ягоды терна, жадно пили сок, вяжущий на языке, и слышали за спиной шелест прелой листвы, но не обращали на него, предостерегающий, внимания? Разве это не они были ее добычей?
Так кому же, как не им, знать ответ на эту загадку лучше всех?
— Охота, — прошептал Херн однажды, прижавшись приоткрытыми губами к ее губам. — Охота никогда не заканчивается, имеет две личины, но всегда несет лишь смерть.
Ответ был правильным, и хотя прошла не одна тысяча лет, прежде чем Титания, наконец, услышала его, оно стоило всех прошлых ее разочарований. Ведь именно так она нашла вторую сторону Охоты. Две ее личины действительно соединились, встретились нос к носу и, слившись в поцелуе, стали одной безраздельной тьмой.
Ибо Охота может быть суровой и безжалостной, как лязг доспехов и металлических пластин с гребнями на плечах. Как стрела с красным опереньем и отправивший ее в полет звон тетивы. Как войско, под поступью которого крошится лед, и как мужчина, что веками его неизбежно возглавляет. Но еще Охота может быть изящной, нежной и такой, что пасть одной из ее жертв не так уж страшно, даже словно бы почетно. Как ночь, обрядившаяся в молочную пергаментную кожу, а серый диск луны расколов надвое и вставив вместо глаз. Как песня, что одновременно урчание в пустом желудке и мелодичный зов, волчий вой под звуки лиры. Как цветочная пыльца, делающая воздух тугим и плотным, а голову — легкой и пустой; как нектар с привкусом орехового масла, обещание вечности и готовность с самим с собой ради нее расстаться.
Есть две личины у Охоты, — Дикая Охота и Королева фей, — но всегда один конец. Теперь они смертельны вместе, рука об руку, и проклятие любое делят пополам.
— Ваше Величество, — поклонился Херн.
Стоя перед троном, он опускался на колени каждый раз, когда приносил добычу — мертвецов, что были призваны им с поля боя, которыми отныне кормились ее бесчисленные дети и она сама, не покидая белокаменного замка чаще, чем несколько раз в год забавы ради. Однако в этот раз поклон его был совсем иной: уважительный, почтенный, как немое подтверждение приказа, который он безукоризненно исполнил. Для того, чтоб в нем припасть к земле, Херн прибыл в сердце чужого поселения, на главную площадь Благого двора, где их не менее Благая Королева теперь переваривалась по кускам в желудке Неблагой.
Ах, какой сладкой оказалась та на вкус! Какой сочной и зернистой была на языке, упругой меж зубами, а в животе тяжелой, сытной. Титания отродясь так не наедалась, даже когда Херн закатил в честь Остары пир и накормил ее за ночь дюжиной крепких молодых мужчин. У голых, изодранных в бою колен Титании лежал заляпанный венец из янтаря в золотой оправе. Отражая в себе сияние венца один в один такого же, но из хрусталя и паутины, он спустя несколько минут померк — так закончилась одна история и началась другая. Титания пальцами растерла злато в порошок, прямо как ребра той, что его носила. Недоеденные части плоти нежной и воздушной, как зефир, лежали там же. Титания оставила лишь ноги с обрывками муслинового платья и голову с копной таких же золотых волос. Пришлось оттолкнуть ее рукой, чтобы остекленевшие нефритовые глаза не пялились так дерзко.
— Утомительная, — фыркнула Титания надменно. Эту надменность она теперь могла себе позволить — единственная в Волшебной Стране Королева фей. — Иди сюда, мой бравый полководец.
Херн, расчистивший для нее к замку путь сквозь сверкающую рощу и выложив тропу из фейских тел, — куда крупнее тех, что принадлежали Тите, и даже после смерти сияющих, как звезды, — послушно подошел. К кольцу из обглоданных костей и багряных ручейков, обломков разрушенного сапфирового трона и взращенных на них черных бархатных цветов. Они вместе все здесь захватили, чтоб себе присвоить и сгубить. Прекрасный замок сплошь из разноцветных стекол, зависть к которому терзала Титанию веками, теперь откликался у нее лишь желанием поскорее уйти домой, вернуться в родные стены, ловушки и шипы.
Но сначала...
— Королева, — выдохнул Херн, когда Титания схватила его за нагрудную пластину, потянула вниз, к себе, в гнездо из объедков и соцветий. Там, снаружи, все еще преданно стояло войско, но Херн принялся сбрасывать вниз одну часть доспеха за другой. Ему было все равно, ведь... — Я служу тебе.
Так, спустя немногим больше, чем полгода, у Охоты появился третий лик. Они дали ей имя Олененок.
— «О, мальчик мой милый, иди же скорей! Я позову для тебя дочерей... Они поведут хоровод свой ночной. Станцуют, споют, дорогой мой, с тобой».
Детская люлька, — добротная, с подстилкой из падуба, катышек паутины и лоскутных одеял, да с подвешенными к жердочке фигурками, выточенными из человеческих костей, — всегда стояла вплотную к родительской постели. Феи, каждая из которых была размером с мизинец, но легко вонзалась под ребра иглой, вечно порхали над ней, осыпали пыльцой и, — сколько бы Титания их за то не ругала, — обидными словами.
Не такая маленькая, как они. Не такая смышлёная с первой секунды после рождения, как они. Не такая прожорливая и вдобавок без крыльев, зато единственная в своем роде — чистое воплощение Охоты.
— Отец мой, отец мой, меня он схватил, мне сильную боль царь лесной причинил!
И Херн, часами нависающий над колыбелью, — ибо страж он теперь сразу для двух королев, — схватил ее тоже, защекотал мозолистыми пальцами мягкий белый животик. Олененок взвизгнула, залилась смехом, взвилась вверх, как будто крылья у нее все-таки были, и она пыталась взлететь, а потом... Как вцепилась зубами ему в руку, да всей челюстью разом! Мелкие, еще кривые, но уже острые, как гвозди, зубки, что успели вырасти, вошли Херну под кожу все до единого.
Ох, милое дитя! Вот и что ей сделаешь? Не отругаешь же за инстинкт древний, первобытный, наследованный от матери и проснувшийся даже раньше, чем инстинкт сосать молоко из материнской груди или свежую кровь из ее же пальца. Не вычитаешь за характер твердый, как оленьи рога, что проклевывались на макушке сквозь рыжие локоны, или за привязанность, которую плод Охоты, как охотник, и выражал. Ибо не было ничего любовнее и искреннее укуса, а потому и крови, которая из него вытекает, которую пьешь и делишь на двоих. Так делают зверь со зверем, королева с королем, родитель со своим созданием. То узы, что текут во всех и всех же объединяют. Его дочь просто знала эту мудрость отродясь, вот и все.
Серые глаза, круглые, как у совы, смотрели на Херна снизу-вверх из подвесной колыбели. Кровь, змейкой собирающаяся в месте укуса, уже вовсю текла Олененку в горло и на белые льняные простыни. Херн сморщил нос, но ни слова ей не сказал, даже не перестал улыбаться. Только щекотать прекратил, — пожалуй, на сегодня хватит, — и принялся методично, осторожно, зуб за зубом, отцеплять от себя дочь. Затем вытер рукавом ее окровавленный пухлый ротик, проверил заодно пеленки, в которые она была замотана, и понял, что дочь его голодная. Захныкала, ухватилась, попыталась укусить еще.
— Ах, ты так похожа на свою мать!
Херн вздохнул благоговейно и поцеловал ее в лоб, а затем скормил ей целый кусок сырой и здоровой печени, которую только-только вырезал из-под легких очередной добычи. Не мертвой, — не престало ребенка кормить покойниками! — а живой, еще хрипящей и трепещущейся там, за дверью. Олененок все, что ей давали, одинаково быстро и охотно ела — кроме овощей.
Неудивительно, что так же быстро она и росла.
— Ты плод чрева моего, — мурлыкала Титания каждый раз, когда укладывала Олененка спать. А не было места для сна теплее и уютнее, чем ложе из разноцветных одеял, смоляных волос и цветочных лепестков, материнская грудь и отцовские руки, когда их тела, оставляя небольшое пространство между собой, образовывали еще одну кровать внутри большой кровати. Так Олененок могла прижаться к обоим сразу, свернуться клубочком, как когда Херн впервые взял ее на руки, покрытую кровью и слизью, но даже не заплакавшую, а сразу открывшую глаза и посмотревшую в глаза ему. — Ты плод Охоты во всех ее ипостасях, ты плод ядовитый и сладкий, как терн. Ты мое драгоценное дитя, принцесса Неблагого двора, и мы с папой очень любим тебя, как любили друг друга посреди зала Благого двора, когда кровь их Королевы еще насыщала мой желудок, а язык твоего отца...
— Так, волчья ягодка, засыпай скорее, а то уже скоро рассвет, — вмешался Херн мягко, едва успел. Подоткнул цветной лоскуток ей под бок, провел широкой ладонью по спинке в желтой пижаме, которую принес из Мира-На-Той-Стороне, и проследил, чтобы веки Олененка сомкнулись как следует, дыхание стало глубоким и обернулось невинным сопением, прежде чем он посмотрел на Титанию.
— Ты не дал мне закончить свой сказ, — возмутилась она, и то, что должно было быть шепотом, от раздражения стало шипением.
— Любовь моя, есть вещи, которые детям лучше не знать... Например, то, как именно они были зачаты.
— Но как же она тогда узнает, сколь прекрасен дар ее рождения? — озадаченно спросила Титания, будто правда не понимала. — И что породили ее любовь и страсть чистые, как потроха, которые только-только вынули из туши и промыли в ледяной воде? Как она узнает, сколько наслаждения было в ее создании, и как крепок потому наш с тобой союз — ее опора?
— Она уже это знает. Посмотри на нее, Титания... В ней ты и я соединились. Плод не просто чрева, леса, волшебства и темной ночи, а моей любви к тебе. Безупречный то ребенок.
И он поцеловал сначала свою спящую дочь, а затем свою Королеву. После этого им пришлось бесшумно выскользнуть из постели и переместиться в купальни, чтобы Херн мог несколько раз доказать свою лояльность Королеве на деле, стирая губами маленькие шрамы на кончиках ее пальцев, оставленные по его вине, а вину ту искупая добычей, вечной своей охотой и оторванной головой. В этот раз он искал ее даже дольше обычного, потому что сильнее обычного Титания обвилась вокруг него, успев соскучиться за то время, на которое он покидал Волшебную Страну накануне Йоля, чтоб вернуться с новым войском мертвецов.
Спустя несколько лет в лесной чаще зажглись еще одни серые глаза, точно лун в мире стало сразу пять — одна на небосводе, две на ветке вязового древа и еще две чуть пониже, за кустом, покуда та, что на своем лике их несла, так высоко, как мать, еще не доставала. Королева фей и ее любимое дитя. Последняя цеплялась за материнские руки и волосы, скалилась на маленьких и прытких, все еще ревнующих и иногда кусающих за бока крошечных фей. Вместе с тем Олененок училась карабкаться по деревьям и прятаться в листве, выслеживать добычу, рассыпать и взращивать сонные цветы и терн, а затем вгрызаться так и там, чтобы еда сразу усмирилась, и рот наполнился теплой кровью с нежнейшей свежей плотью.
Так для их дочери тоже началась Охота.
Но неуклюжая, пугливая, Олененок шипела на каждый шорох из темноты и все время льнула к матери, мешая ей охотиться, поэтому они возвращались домой очень быстро. И там уже ели досыта, как положено, ибо Херн тоже всегда приносил с собой еду. Наевшись, Олененок начинала льнуть уже к нему: к черному доспеху, рыжей головой к голове отцовской, тоже рыжей, с разветвленными рогами, какие, — пищала она каждый раз в восторге и надежде, — однажды разрастутся у нее из этих маленьких коричневых побегов на макушке. Она забиралась ему на спину, цеплялась, кувыркалась, как бельчонок, и всячески надоедала, капризно требуя внимания. Херн был только рад его без остатка ей отдать, но когда на то начинала претендовать и Тита... Возникали некоторые сложности, ибо Королевы две, а Охотник их один.
Благо, однажды они придумали, как можно время от времени эти сложности решать.
***
— Лора, это ты?
«Нет», — понял Франц почти сразу, как спросил. — «Она еще должна быть на репетиции. Да и Лора никогда не оставляет дверь открытой, а Котякула с ней уж точно не урчит». Урчание Котякулы Франц всегда узнавал за милю, потому что это был самый редкий звук из тех адских и леденящих душу, которые его черный кот издавал обычно. Тянущий с улицы ветер подметал под порог красно-золотые листья и уже похоронил под ними входной коврик, когда Франц сбежал вниз по лестнице с третьего этажа и спешно захлопнул дверь.
Невыспавшийся, — он наконец-то купил себе приличный гроб с ортопедическим матрасом, но тот все равно оказался жутко неудобным, — Франц несколько раз потер глаза, сосредотачивая взгляд на незнакомом силуэте посреди кухни и развалившемся на его руках мурлыкающем коте. Едва завидев хозяина, Котякула тут же встрепенулся, распушил облезлый куцый хвост и, спрыгнул из чужих объятий на пол, нырнул за угол, словно сам осознал совершенное предательство и устыдился. В воздухе мимо Франца проплыли клочки чернявой шерсти.
— Дже-ек! — позвал Франц громко. — К нам в дом, кажется, пробрался сатир! Где у нас метла? Или, подождите...
Франц сощурился, сделал осторожный шаг вперед и присмотрелся к существу, стоящему под кухонным окном, поближе. Нет, однозначно не сатир. Эти паразиты если и пробирались в город, то делали это голыми и голыми же расхаживали по чужим домам, воруя еду из холодильника и женские бюстгальтеры (Франц понятия не имел, зачем они им, и не был уверен, что хочет знать). Девочка перед ним же, во-первых, была девочкой, а не сморщенным козлом, а, во-вторых, на ней была одежда. Причем хорошая и выбранная со вкусом, напоминающая что-то далекое и не безызвестное: темно-зеленое ситцевое платье в мелкую крапинку, белый воротничок, манжетки с жемчужными пуговками, черные колготки... Даже лакированные туфли с круглым носком на кожаных ремешках. Словом, все по высшему разряду!
«Хм, рога...».
Морковно-рыжие кудряшки вились вокруг них маленькими пламенными язычками, а несколько ворсинок кошачьей шерсти, приставшие к кончикам, делали рожками х похожими на две тонюсенькие веточки вербы. И если было в круглых серых глазах девочки что-то, что сказало бы Францу, как и зачем она оказалась здесь, то он этого не нашел. В них, неестественно блестящих, почти светящихся, как будто вообще ничего не было, кроме отражения луны. На погожем дневном небе ее еще не было, а там, на дне черных матовых зрачков — была.
И эта луна тоже показалось Францу смутно знакомой. А еще спустя долгую минуту томительных размышлений с многозначительным «Хм-м» до него, наконец, дошло.
— Почему ты выглядишь, как тот борзый предводитель Дикой Охоты в миниатюре? И.. О, Пресвятая Осень, нет! Нет, нет, нет... Только не это, умоляю!
И, как доказательство его ожившего ночного кошмара, на локте девочки — квадратный фонарик на цепочке с разноцветными стеклами и размером, как садовый, а в ее пальцах — коричневый конверт в следах сырой землицы и пальцы, отливающей желтизной. Франц скосил на нем глаза, молча ему протянутом, и быстро выхватил кончиками вспотевших пальцев.
— «До тех пор, пока не воспылает майский костер, Бог Солнца не сыщет себе жену, а вместо молочных рек не прольются медовые, мы вверяем вам нашу драгоценность. Прошу, сберегите то сокровище, пока мы не вернемся из странствия и не заберем его назад. В нем вся моя любовь и я сама».
Франц зачитал письмо самому себе полушепотом, бегло миновав зачеркнутое обращение «Моим единственным друзьям» с дописанным рядом «Моей второй семье» и еще десяток предложений о том, сколь дивное нынче в Волшебной стране житие, но сколь тяжким оно становится, когда хочется побыть вдвоем, а вас всегда и неизменно трое. Витиеватый почерк Титании, который Франц учился разбирать ни один месяц, он узнал с первой же буквы. А вот почерк внизу, с резким наклоном и агрессивными закорючками, еще и под жирной кляксой, словно оставленной там намеренно для привлечения внимания, видел впервые:
«Если узнаю, что она хоть раз заплакала — тебе конец, вампир!»
— Эй, почему он именно ко мне в письме обращается?! — воскликнул Франц почти оскорбленно и снова засопел над остальными частями текста. — Так, ладно... Олененок, значит... В фонарике ее любимица-фея. Ага, понял... В чемодане, — а где вообще этот чемодан? — пижама, платья, носки... Питается сырым мясом и кукурузными колечками с молоком. О, они с Лорой поладят! Или нет.
Последнее он добавил, когда заметил, что Олененок уже вовсю уничтожает жестяную коробку шоколадного печенья, с ногами забравшись на табуретку, чтобы дотянуться до полки над холодильником. Пока Франц судорожно соображал, что «майский костер», «Бог солнца сыщет жену» и «медовые реки вместо молочных» означает срок с Имболка по Белтайн в целых три месяца, — от этого осознания у Франца чуть не прихватило его мертвое сердце, — Олененок уже успела слопать целых пять штук.
— Нет-нет, не трогай, это печенье моей девушки, она тебя сама за него сожрет! Как тебя там, э-э... — Франц снова глянул в письмо, как школьник в не до конца выученные уроки. — Олененок. Эй! Слышь, мелкая, — Франц навис над ней, упрямо пытающейся вернуть себе жестяную коробку, которую он одной рукой уже задвинул обратно на место, превосходя Олененка в росте минимум на половину Джека, даже когда она стояла на табуретке. — Хочешь дядя Франц покажет тебе фокус? Называется «щелбан»!
У Франца были сестры, да, но не дети, однако он был полон уверенности, что это одно и то же. Он дождался, когда Олененок слезет с табуретки, и, ощерившись, выставил руку над ее хорошеньким личиком с двумя загнутыми пальцами.
«Если узнаю, что она хоть раз заплакала — тебе конец, вампир!».
— Э-э, ладно, проехали, — Франц разжал пальцы и боязливо отдернул руку. — Итак... Как там тебя, опять забыл... Ах, да, точно! Ты вообще умеешь говорить, а, Бэмби?
Он наклонился к ней снова, гаденько так ухмыляясь, как ухмыляются над детьми с острыми зубами только не самые смышленые взрослые. Кажется, Франц и не рассчитывал на ответ, покуда она продолжала молча взирать на него этими круглыми серыми глазами, прижимая к груди крошечный фонарик из витражного стекла с жужжащей внутри феей.
— Я умею говорить, — ответила Олененок вдруг, тем не менее, да внятно так, голосом звонким, как колокольчик, но шипящим там, где нужно и нет. — Ты красивый.
— А?
Его ошибкой было стоять с чем-то, что наполовину является Титанией, лицом к лицу, опираясь руками о собственные колени в старых подранных Котякулой джинсах. Поэтому, когда Олененок застенчиво улыбнулась и шагнула к нему, словно обнять хотела, Франц даже отпрянуть не успел. А когда сделал это и выпрямился, то она уже висела у него на лице, намертво вцепившись зубами в щеку.
— Джек! — завизжал Франц пронзительно. — ДЖЕК!
Олененок пробыла у них целый месяц и, к облегчению Херна, ни разу не заплакала.
А вот Франц плакал каждый день. И поделом.