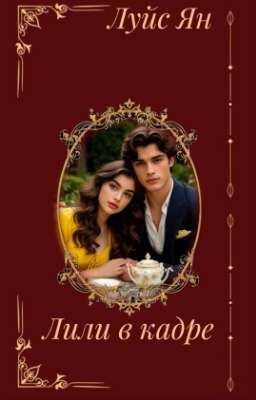5. Папа
Ресторан «Грузинские горы» дышал теплом тандыра и запахом специй, которые висели в воздухе, как старые шторы. Каждая деталь здесь казалась вырванной из прошлого: бархатные стулья с потёртыми подлокотниками, люстры в виде виноградных гроздьев, чьи стеклянные ягоды пылали жёлтым светом, и фрески на стенах, изображающие горные пейзажи, которые давно исчезли под слоем копоти.
— Лили... — произнёс он моё имя, будто пробуя его на вкус после долгого молчания. Его голос был хриплым, как радиоприёмник с разряженными батарейками.
Я села, ощутив под собой холод бархатной обивки. Между нами лежало меню, раскрытое на странице с хачапури. Сыр на фотографии тянулся золотистыми нитями, напоминая о тех субботах, когда он водил меня в кафе «Дружба» после школы. Тогда его руки пахли бензином и мятными леденцами, а на лацкане пиджака всегда торчала зубочистка.
— Закажи что-нибудь, — он подтолкнул ко мне меню, и его пальцы дрогнули, словно он боялся коснуться меня даже через бумагу.
Я провела пальцем по ламинированной странице. В углу красовалось жирное пятно — чей-то давний след от соуса.
— Лобио. И клубничный лимонад.
Он вздохнул, и его плечи опустились, будто он сбросил невидимый мешок.
— Помнишь, как ты облилась ткемали в «Дружбе»? — он попытался улыбнуться, но получилось криво, как у клоуна с размазанным гримом. — Весь фартук был красным, а ты ревела, будто мир рухнул.
— Ты купил мне эскимо «Лакомка», — сказала я, удивляясь, что помню этот момент так чётко. — Оно растаяло у тебя в руке, пока ты бежал из киоска.
Он кивнул, и в его глазах мелькнула искра — крошечная, как уголь в пепле.
— Ты сказала, что я испортил всё, даже мороженое. — Он потёр переносицу, где застыла глубокая морщина. — А я... я тогда думал, что всегда смогу всё исправить.
Официант, мужчина с усами, закрученными в штопор, принёс лимонад. Стакан запотел, и капли стекали по моим пальцам, как слёзы. Отец наблюдал, как я делаю глоток, будто боялся, что я исчезну, если отведёт взгляд.
— Мама говорила... ты уезжаешь. — Он произнёс это так, будто я собиралась прыгнуть в пропасть.
— В Барселону.
— Одна? — его бровь дёрнулась.
— С чемоданом и визой.
Он сглотнул, и его кадык затрепетал, как пойманная птица.
— Я... мог бы помочь. Деньгами. Или... — он замолчал, разглядывая узор на скатерти.
— Зачем? — я сжала стакан так, что пальцы побелели. — Чтобы потом исчезнуть на десять лет?
Он откинулся на спинку стула, и люстра бросила на его лицо сеть теней.
— После развода... я думал, ты ненавидишь меня. — Его голос стал тише, будто он говорил сам с собой. — Каждый раз, когда звонил, ты вешала трубку. Потом сменила номер.
— А ты сменил семью.
Он вздрогнул, словно я плеснула ему в лицо водой. Его пальцы сжали край стола, костяшки побелели.
— Ирина... — он произнёс её имя так, будто это было заклинание. — Её сын Дима... он был твоим ровесником.
Лобио принесли в глиняном горшочке. Пар поднимался к потолку, цепляясь за люстру, и стеклянные виноградины звенели, как колокольчики. Я взяла ложку, но рука дрогнула — капля соуса упала на скатерть, добавив алую точку к белому полотну.
— Он болел, — продолжил отец, глядя на мою ложку, будто в ней была заключена вся его история. — Лейкемия. Мы продали всё: её кольца, мои часы, даже диван. Но деньги таяли, как снег в марте.
Я медленно перемешивала фасоль, наблюдая, как орехи всплывают, словкак крошечные острова в красном море.
— В последний день... — он замолчал, его горло содрогнулось. — Он попросил меня включить «Кузнечика» из «Ну, погоди!». Смеялся, пока не начался приступ кашля.
Ложка звякнула о край тарелки. Где-то на кухне зазвенела посуда, и чей-то смех прозвучал фальшиво, как расстроенное пианино.
— После похорон Ирина сказала, что я пустое место. — Он поднял глаза, и я увидела в них ту же беспомощность, что и в день, когда он ушёл, забыв на столе ключи от нашей квартиры. — Она была права. Я не смог даже заплакать.
Я протянула ему салфетку. Он взял её, не глядя, и бумага зашелестела, как осенние листья.
— Зачем ты мне это рассказываешь? — спросила я, и мой голос прозвучал мягче, чем я планировала.
— Потому что бегство не лечит. — Его рука дрогнула, едва не опрокинув стакан. — Я бежал от вас... потом от них. Теперь бегу от зеркала, потому что не узнаю себя.
Фасоль остывала, масло загустевало плёнкой на поверхности. Я отодвинула тарелку, чувствуя, как слова отца оседают в желудке камнями.
— Я не бегу, — прошептала я. — Я иду. Даже если моя дорога — это тонкая нить над пропастью.
Он достал из кармана свёрток, завёрнутый в газету с пожелтевшими заголовками. Внутри лежал компас с потрескавшимся стеклом.
— Дед говорил: «Солнце всходит на востоке, даже если ты закрываешь глаза». — Он положил его мне на ладонь. Бронза была тёплой, будто нагретой солнцем. — Он хотел, чтобы ты взяла его в свой первый поход.
Я сжала компас, чувствуя, как гравировка впивается в кожу. Стрелка дрожала, указывая куда-то между нашими столиками.
— Он сломан, — сказала я, но не выпустила его из рук.
— Зато всегда показывает север. — Он слабо улыбнулся. — Как я... пытался.
Молчание повисло между нами, плотное, как дым от шашлыка. Где-то заиграла грузинская мелодия — печальная, как ветер в горах.
— Почему ты не вернулся? — спросила я, и голос сорвался, обнажив ту девочку, которая ждала его у окна с плюшевым кроликом.
Он потянулся через стол, его рука замерла в сантиметре от моей.
— Я боялся, что ты оттолкнёшь. И... — он проглотил ком в горле, — что увижу в твоих глазах себя — неудачника, который сжёг все мосты.
Я взяла его руку. Кожа была шершавой, как кора старого дерева, а на запястье красовался шрам — белый и неровный, как русло высохшей реки.
— Теперь ты видишь.
Он кивнул, и его пальцы сжали мои на мгновение — быстро, будто крадучись.
— Позвони, когда приедешь. Хотя бы... чтобы я знал.
— Может быть.
Он заплатил, оставив на столе чаевые в виде смятой пятисотрублевки. У выхода замер, поправляя плащ, который висел на нём мешком.
— Лили... — он обернулся, и в его глазах плескалось что-то, что я не могла назвать. — Если станет страшно... вспомни, как мы с тобой заблудились в лесу. Помнишь?
— Мы ели чернику и смеялись, пока не нашли дорогу.
— Да. — Он улыбнулся впервые за вечер — искренне, до морщинок у глаз. — Ты тогда сказала: «Пап, мы как индейцы!».
Дверь захлопнулась за ним, позвенев колокольчиком. Я осталась сидеть, сжимая компас, пока официант не убрал тарелки, оставив на столе лишь круг от горшочка, как след от поцелуя.
***
Таксист включил радио. Из динамиков лилась испанская гитара — страстная, как удар ножом. Я прижала лоб к стеклу, наблюдая, как дождь превращает Липецк в акварельный кошмар: расплывающиеся фонари, лужи-зеркала, в которых тонули силуэты прохожих. Компас лежал на коленях, стрелка безумно крутилась каждый раз, когда мы поворачивали.
Дома Бони ждал на кровати, привалившись к подушке. Пришитая пуговица смотрела вбок, будто подмигивала.
— Ну что, пират? — я плюхнулась рядом, ощущая, как пружины впиваются в рёбра. — Теперь ты видишь то, что мне не дано.
Он молчал, пахнув пылью и детством. За окном во дворе завыла собака — протяжно, как сирена.
***
День Х
Чемодан, купленный за ползарплаты, пах дешёвым пластиком и чужой жизнью. Мама складывала вещи с маниакальной точностью, будто собирала пазл:
— Влажные салфетки. Таблетки от головы. Паштет в банке... — она засунула в боковой карман жестяную коробку с оленем на крышке.
— Мам, это же твой паштет с грибами. Ты его десять лет хранила!
— Вдруг голодно будет? — она потрогала мою блузку из секонд-хенда, будто проверяя ткань на прочность. — Хоть платье приличное купила...
Я взяла её руки — шершавые, с облупившимся лаком на ногтях. Шрамы на костяшках рассказывали историю посудомоечных машин, дешёвых порошков и сломанных ножей.
— Вернусь, — сказала я, зная, что это ложь.
— Не ври, — она выдернула ладонь, поправляя платок, из-под которого выбилась седая прядь. — Если уж уезжать — так чтобы не оглядываться.
В углу чемодана лежала фотография: мне пять, я сижу на его плечах, а позади — карусель с облезлыми лошадками. Мама заметила мой взгляд:
— Возьми плащ. — Она сняла с вешалки серое пальто, пахнущее нафталином и чужим парфюмом. — Он... оставил его в тот день.
Ткань была холодной, как его прощальное объятие. Я накинула плащ, и подкладка коснулась кожи — шёлковая, коварная.
— Пора, — мама взяла чемодан, но я перехватила ручку. Её пальцы дрогнули, задевая мои.
Мы вышли на лестничную площадку. Запах мокрого металла и сырости ударил в нос. Где-то этажом ниже плакал ребёнок — высоко, пронзительно, как сирена.
— Подожди, — мама сунула руку в карман и вытащила конверт. — Возьми. Не открывай, пока не сядешь в самолёт.
Бумага шуршала, как змеиная кожа. Я сунула её во внутренний карман плаща, где уже лежали компас и билет.
Дверь подъезда хлопнула за нами, выплюнув нас в объятия липецкого утра. Туман висел над асфальтом, превращая улицу в декорацию из сна.
И тут...