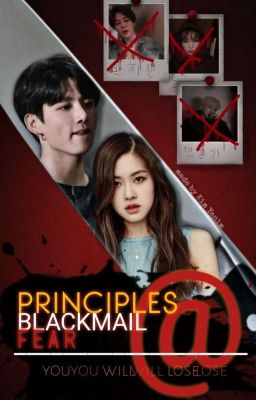XVIII
▶ Знак бесконечность (ost Лёд)
Запрокидывая голову и глядя слезящимися глазами в серое, вечно затянутое тучами небо, я рвано вздыхаю, на выдохе сдерживая всхлип, который стоном хочет прорваться сквозь трясущиеся губы.
Я бы так хотела верить в то, что Юнги сказал всё это в сердцах, соврал. Но, как все знают, его словам никогда не нужно подтверждений. Они и есть подтверждение.
А ведь та самая правда, которую я так стремилась узнать, изначально была у меня под носом. Каждый день проходила передо мной с ехидным выражением лица и насмешливой улыбкой.
Тот самый парень в черной толстовке, ежедневно упрекал меня в "моём" проступке; ежечасно напоминал мне о моей виновности, презирал меня; ежеминутно заставлял всё внутри сжиматься, превращаясь в эмоциональную кашу.
Тот самый вор пил со мной с одной бутылки, сидел за одним столиком в кафе, спал со мной в одной постели. Смотрел на меня жадными глазами, трогал своими грязными руками мое тело, целовал меня своими лживыми губами.
Улыбался мне и глазами кричал, что нуждается во мне, что хочет меня. Льстил мне, преследовал и утверждал, что это мне во благо, раз я такая проблемная.
А оказывается, проблема — это он.
И ведь, действительно, в голове даже не возникало мыслей, хоть как-то связывающих его с кражей. И хоть сейчас та ситуация не кажется уже чем-то важным на фоне остального барахла, но тогда она была решающей для меня.
Она была началом.
И он знал. Знал, потому что и был тем, кто все заварил. Тем, кто, обернувшись после звона разлетевшегося стекла, словил мой испуганный взгляд и всё равно позволил себе так поступить, скрывшись под капюшоном.
Позволил себе лгать все это время, позволил себе приближаться ко мне больше, чем на метр.
Позволил себе, черт возьми, уничтожать расстояние между нами за считанные секунды, чтобы я взрывалась каждый раз при виде его черного пронзительного взгляда.
Глаза жжёт, и я опускаю лицо, давая слезам выпасть из глазниц прямо на мокрый асфальт, не скользя при этом по коже лица и не оставляя следов.
Ком тошноты подкатывает к горлу, когда вибрация в кармане заставляет меня вяло потянуться к телефону.
У меня начинает сосать под ложечкой, и ощущение желчи кажется столь выразительным при виде имени контакта.
Я не отвечу тебе. Я не приду к тебе.
Я боюсь сказать слишком много и в итоге не сказать ничего толком. Поэтому игнорирую звонок, заправляя выбившиеся пряди волос трясущимися руками и неровно дыша.
И ничуть не легче от псевдо чувств Юнги, которого меньше всего хочется сейчас видеть и слышать.
Он придумал себе то, чего нет. Поставил меня перед фактом существования этого несчастного и скользкого «мы», которое изначально было лишь его драматичной задумкой.
Его карие глаза были залиты краснотой комнаты, но капилляры и без этого света были красными, воспаленными. Быть разочарованным во мне — ему не впервые.
Но выглядел он так, будто в первый раз и по-настоящему. Будто, надломилось не только его внутреннее «я» и завышенное чувство самолюбия, но разрушилось нечто большее.
Он манипулятор. И очень жаль, что не лгун.
Его пунцовое лицо, залитое стыдом после слов, которые он так долго не решался мне сказать или же держал до самого накала страстей, чтобы резко опустить меня с небес на землю, отпечаталось на сетчатке глаза.
Я вижу его каждый раз, когда закрываю глаза, что продолжают воспроизводить соленую жидкость.
Ляпнул, не подумав. Сморозил. Выплюнул на эмоциях. — Это не свойственно Мину. Это не правда.
Он сделал это специально. Неподдельные эмоции, но выжданный и удобный момент. Крайний метод, самый последний способ оставить меня себе. Кардинальные меры.
Которые сработали?
***
Вечная драма. Цирк с травмированными акробатами на подтанцовках у главного клоуна, — так ужасно осточертел.
Мысли кажутся такими заторможенными, а голова такой тяжелой, что в какой-то момент становится невыносимо.
Пряди длинных темных волос при каждом дуновении холодного ветра лезут в рот и прилипают к липкому от слез лицу.
Я напряженно откидываю их назад, будто пытаюсь сражаться со змеями-убийцами на собственной голове.
И как только за углом аллеи появляется табличка с таким рандомным и, кажется, вовремя необходимым заведением, я, не задумываясь, сворачиваю туда, оповещая работников звоном дверного колокольчика.
—Мне нужно подстричься,—шмыгаю я, настойчиво обращаясь к девушке на ресепшене,—Покороче.
Девушка приподнимается со стула, оглядывая темные длинные волосы и вопросительно возвращаясь к моему недоброжелательному лицу уставшей студентки.
—Вы уверены, что хотите состричь такие роскошные волосы? Мы можем просто их подравнять, если вам хочется каких-то изменений?—она выходит из-за стойки, подходя ближе и беря прядь влажных волос в руку, аккуратно ее покручивая.
—Мне нужно отстричь их до сюда,—уже немного раздражаясь тому, что девушка не сразу принимает мою просьбу, я прикладываю палец чуть ниже мочки уха.
—Ладно, вас поняла. Сделаем,—глядя, как резко меняется мое настроение и не желая терять клиента в этой богом забытой парикмахерской, где они — не частое явление, та указывает жестом пройти за ней.
***
И вот, когда я провожу рукой по голой шее, где не тяжелеют густые волосы и не тянут голову вниз, я чувствую хоть какое-то облегчение; которое тут же забывается после очередного игнорируемого мной звонка.
Прости, Чонгук. Сегодня я буду идти долго. Очень. И навряд ли дойду вообще.
Так же, как долго доходило до меня то, что ты мне пиздел все это время в лицо...
В голове все еще не укладывается, насколько я оставалась глупа и наивна. Ведь в любом детективе преступник всегда находится под носом у главного героя; и именно поэтому он даже не подозревает.
Вот и я не подвожу свой книжный образ драматизирующей девушки, забивающей на проблемы близких и друзей из-за собственных.
И хоть я и попросила Мина сделать так, что бы Ли Мин Сок был уволен; я не могу полностью доверить всю работу ему. Если он вообще в силах что-то изменить. Может, я его переоцениваю.
А, может, я хочу загрузить его той же ответственной и абсурдной работой, без малейшего ответа на его вопросы, как и он когда-то возложил на меня.
***
Неделя начинается не с кофе, а с отсутствия желания разговаривать и какой-либо эмоциональности на лице. Наступает то самое опустошение, которое психологи предпочитают называть депрессией.
Краски сгущаются, и окружение кажется еще более надоедливым и раздражающим, чем оно было до этого, но вместо привычного выплеска эмоций и агрессии — ничего.
После стрижки половина проблем ушла вместе с упавшими на пол парикмахерской сантиметрами густых тяжелых волос. И очень жаль, что вместе с ними не отсеялись и навязчивые звонки Чонгука, которые я игнорировала на протяжении двух дней.
Он будто что-то почувствовал; будто понял, что что-то не так, и стал еще пуще названивать и писать сообщения по типу "Йа Ним!!! Ответь блять" или "Ким Йа Ним, ты где пропала?". Но, к счастью или сожалению, я как раз-таки чувствовать перестала.
Мин Юнги предпочел молчать и, по всей видимости, бездействовать. Это я могу понять, когда вижу Ли Мин Сока выходящим из аудитории с его привычной натянутой улыбкой и мелкими морщинками у глаз, из-за чего по спине пробегается какое-то неприятное покалывание, вмиг заставляющее меня развернуться на пятках на сто восемьдесят градусов и сжать лямки рюкзака.
Сквозь быстро шныряющие туда сюда макушки студентов, передвигающихся по коридору в хаотичном порядке и сталкивающихся между собой, я улавливаю потускневшими глазами взъерошенную темноволосую шевелюру и не менее взбудораженный и почти взбешенный взгляд чёрных глаз, так уперто стоящего в проходе Чонгука.
Он, будто в ступоре, после недолгих размышлений сводит брови друг к другу и часто моргает, выказывая свою абсолютную рассеянность от возможного недосыпа вперемешку с удивлением и легкой ноткой злости. Видимо, он не ожидал меня увидеть; или ожидал, но не в таком виде.
Мои волосы в беспорядочном подобии каре, глаза растертые и красные, сухие губы плотно сжаты и, кажется, даже если захочу, не смогу их разжать, при этом не порвав тонкую кожу.
Никак не проявляя заинтересованности в общении с Чоном, я сворачиваю в правый коридор, дабы избежать сразу двух нежелательных встреч. Всем телом ощущаю громкие шаркающие и выделяющиеся на общем фоне стремительные шаги, но не оборачиваюсь, пока это не делает за меня рука преследователя одним резким и малоприятным движением.
Не поднимая глаз, чтобы избежать зрительного контакта, я тут же сталкиваюсь с пуговицами на груди хлопковой белой рубашки, что смещены на одну и полностью сбиты с предназначенных мест в системе. Но предпочитаю оставить всё как есть и не указывать на это, учитывая, что вообще ни на что указывать не хочется.
—Избегаешь меня, значит?—по взвинченной интонации вопрос не кажется риторическим.
Его грудь тяжело вздымается, когда я предпочитаю промолчать вместо ответа.
—Эй,—сжимая большим и указательным пальцами мой подбородок, парень вздергивает его вверх, быстро бегая пытливыми глазами по моему лицу,—Что за спектакль с перевоплощениями, а?—длинные пальцы свободной руки зарываются в короткие волосы, тут же отстраняясь, когда я неодобрительно дергаю головой.
Вяло погружаюсь в черноту его пасмурных глаз, когда мне даже не хочется кричать на него. Он всегда выводил меня на эмоции, брал противника собственными слабостями.
Я уверена, что ему куда проще было бы проораться и помириться очередным ярым страстным поцелуем. Знать, что я прощу любую его ложь, стоит только ощутить прикосновения его теплых рук.
И его губы, как всегда, к этому располагают.
Естественно, он создает абсолютно непонимающий образ: спешная рассеянность, потеря концентрации, глаза, то и дело, быстрыми перебежками скачущие от ворота моей толстовки к кончику носа.
Такой весь по-ангельски невинный. По-детски заинтригованный.
Интересно, он хоть раз чувствовал себя виноватым? За всё то, что он сделал со мной. За весь этот гнёт. За собственноручные унижения, за укор в его же глазах, за свою ложь.
Ведь совершенно не трудно догадаться, что он уже всё понял. Просто хочет получить подтверждение из моих уст, чтоб продолжить свою извинительную "артиллерию".
—Приём,—парой щелчков пальцами перед лицом шатен возвращает меня к реальности,—Да что с тобой, чёрт побери?—вскидывает он брови, отпревая от меня,—Сначала соблазняешь и обещаешь продолжить начатое, а потом пропадаешь на два дня,—негромко, но с некой нескрываемой претензией говорит Чон, вопросительно склоняя голову набок.
И если это была шутка, то не смешная.
—А,—всё-таки рву я кожу на губах, открывая наконец рот,—Так это было единственное, что тебя волновало?—максимально безобидно вопрошаю я,—Так не волнуйся ты так,—отталкиваясь от стены, я подхожу к аудитории, продолжая держать воспаленный взор на такой противной мне сейчас фигуре,—Тебе любая студентка тут даст,—и с натянутой положительной интонацией скрываюсь за дверями кабинета.
Почему он не кричит мне вслед "Я не это хотел сказать"? Ведь я так хочу это услышать.
Поднимаясь вверх по кафедре, я стараюсь сглотнуть ком, что встрял в горле и заставил глаза защипать.
Блондинистая макушка с парты переднего яруса не отрывается от стола. Желтые волосы раскиданы по столу, голова уложена на руки. Лица Су Рим не видно. Да и нет особого желания на неё смотреть.
Есть подкожное желание её ударить, которое я игнорирую. Как и все раздражители сегодня.
Её спина выпрямляется лишь с приходом преподавателя. Моя не выпрямляется вообще на протяжении всей пары.
Ты самая последняя мразь, невоспитанная, избалованная, необразованная, фальшивая, лживая, беспринципная и готовая пойти по головам ради своих жалких целей. — Единственное, что крутится в голове, каждый раз, когда девушка поправляет свои соломенные истощенные волосы.
Ведь не нужно даже поднимать голову, когда в ушах стоит шуршащий звук, и обломки секущихся концов летят на пол, словно снежные хлопья, чтобы понять, насколько они в плохом состоянии.
***
Когда я открываю дверь каморки, глаза тут же начинают слезиться от запаха табака. Она прокурена. Сквозь облако дыма я могу разглядеть тощий силуэт Мина, стоящего у окна.
Уставшая после четырех пар я молча плюхаюсь на низкий диван, проваливаясь и утопая в поролоне, и поворачиваюсь к парню, всё так же продолжающему нерасторопно курить.
—Тебе идет,—кротко отвешивает он, окидывая меня секундным взглядом, стряхивает пепел сигареты за открытую оконную раму, после последней затяжки и вовсе выкидывая окурок в окно.
—Я по поводу Ли Мин Сока,—стараясь втянуть менее прокуренный воздух со стороны окна в ноздри, я сдерживаюсь, чтобы не закашлять,—Ты поможешь, или мне самой разбираться?—откидываю голову на спинку, оглядывая неподвижного юношу.
Чёрные корни проглядывают в блондинистых волосах, ведь парню совершенно некогда ими заниматься. Очередная незамысловатая кофта с протестующей надписью "слабые люди правят сильными", будто куплена им в подростковом возрасте с целью позлить отца, портит его образ сына влиятельного человека.
Лишь дорогое толстое кольцо на большом пальце правой руки заставляет вспомнить о его своеобразной "мощи" в этом скупом мире.
—Я только что отправил прошение об увольнении директору Чхве,—неожиданно для меня,—В ответном письме он потребует веской причины и её доказательств,—он прикрывает окно, ероша волосы,—Может, скажешь, в чем, собственно, дело?
—Он заслуживает куда больше, чем просто увольнение,—разминая шею, я не отрываю глаз от журналиста,—В причине напишешь «домогательства»,—лицо парня вытягивается, брови приобретают угловатую форму,—Больше от тебя ничего не требуется,—я поднимаюсь с дивана.
—Кого он домогался? Тебя?—нелепое волнение в карих глазах и рывок в мою сторону; почти прикосновение и тут же отстранение.
Я сдерживаю смешок, что предательски вырывается. Столько беспокойства; должно быть, приятно.
Но теперь оно мне кажется столь бесполезным и лишним. Где было твое беспокойство, когда ты наблюдал за тем, как меня безосновательно обвиняют?
—Какая разница, кого он домогался? Это может коснуться кого угодно, если мы вовремя его не остановим,—наконец включается разум, быстро прикрывающий собой тупое желание поглумиться над Мином путем невыполнимого поручения.
Оно вполне выполнимо.
—Понял,—снова кроткий кивок,—Так ты,—обрывается на полуслове Юнги, неловко отводя руку за голову, шерудя волосы на затылке,—Ты в норме вообще?
Этот дурацкий и неуместный вопрос заставляет меня обернуться и натянуть притворную театральную улыбку.
—Я? Да лучше всех,—на мой резвый ответ журналист лишь закатывает глаза, будто я его превратно поняла или сильно утрировала его беспокойство, обесценив его своей выплюнутой репликой.
Но я так и сделала.
—Слушай,—скрывая раздражение за бесстрастным лицом, блондин разводит руками,—Мне жаль, ясно?—он не пытается подойти ко мне, оставаясь на расстоянии двух вытянутых рук. И я удивлена, что каморка вообще позволяет отдаляться на такое расстояние.
А, может, это мне одной оно кажется таким огромным.
—Что тебе жаль?—громкий хлопок двери, бьющейся об стену от силы открытия, и почти рычащий утробный голос Чонгука, пропитанный злобным недоумением, так эффектно ввалившегося в студию,—Так это ты распиздел?—на повышенных тонах он выказывает полное отсутствие ранее заявленных манер.
Мое восприятие расстояния вмиг становится реалистичным, когда шатен за два шага подлетает к Юнги и с размаху бьёт по острой челюсти, заставляя ту щелкнуть. Он изнывающе потряхивает кистью, которая испытала ту же боль, что и лицо противника.
—И правильно сделал,—выпрямляясь, Мин отхаркивается кровавой слюной в сторону и неожиданно для всех, скривив лицо, заносит кулак в солнечное сплетение Чона, когда тот не успевает сориентироваться и еле как выдерживает удар, отшатываясь в мою сторону и сгибаясь пополам.
Оступаясь из-за его резкого толчка в мою сторону, я падаю на диван и не рискую больше подниматься. Поролон засасывает меня в свою глубь. Я поддаюсь.
Откидываю голову на спинку и наблюдаю за последующими несколькими ударами от Чона по лицу журналиста. И ответными ударами Юнги по слабым местам обидчика. Кровавые подтеки на лицах обоих, одышка и матерные слова вперемешку с обвинениями.
Картина маслом...
Я даже ловлю себя на мысли, что, скрестив руки на груди и глядя на драку снизу вверх, я получаю удовлетворение. Я получаю дикое удовольствие от причиняемой ими же самими боли. Людям нужны лишь хлеб и зрелища. Похоже, я не исключение.
Парни, будто читая мои мысли, начинают безразборно лупить друг друга, захлебываясь в собственной желчи и кровавых слюнях. И мне нравится видеть, как они сами себя наказывают за все содеянное ими.
Сцены в замедленном действии застывают на моей сетчатке глаза. И я готова поклясться, что в голове в какой-то момент заиграла неплохая музыка, будто саундтрек.
Приставляя палец к виску, я заинтересованно смотрю на Чонгука, решая, стоит ли сейчас встрять в драку или еще немного подождать, пока он точно не сможет стоять на ногах. Своих прекрасных, длинных, жилистых ногах.
—Брейк,—подаю я голос, когда две пары прищуренных от боли и ломоты глаз уставляются на меня, будто вот-вот, и набросятся прогрызать мне сонную артерию,—Успокоились?—я наконец отрываюсь от предмета мебели, в который почти вросла задом.
Трясущейся рукой Юнги вытирает сочащуюся красную струю под носом, давая разглядеть разбитую тыльную сторону ладони. А у Чона явно будет фингал на правой скуле, судя по тому, как он резко одергивает пальцы, ощупывая лицо, и шипит.
Думаю, стоит промолчать о том, что наверняка творится у них под одеждой. И я имею в виду ссадины и гематомы на бледной и бронзовой коже, возможные переломы ребер.
Но они это заслужили...
—Я изначально был спокоен,—процеживает Мин, кидая враждебный взгляд на второкурсника.
—Я почувствовал это всей грудной клеткой,—язвит шатен, пытаясь посмеяться, но вместо этого закашливается, на каждом болезненном выдохе сгибаясь и держась за грудь. Я игнорирую свои позывы подхватить его под локоть.
Меня ведь никто вовремя не подхватил.
—Я так понимаю, это и есть настоящие джентльменские разбирательства? Да, Чонгук?—с укором я поднимаю на него глаза, и дурацкая кривая улыбка сходит с его разбитых губ,—Где-то между "ты сраный сукин сын" и "это всё из-за тебя" я поняла, о чем идет речь,—если эти плевки друг в друга вообще можно речью назвать,—Был ли смысл в этом побоище?—я перевожу взгляд на бледное лицо журналиста, глаза которого виновато говорят сами за себя; ведь мог не отвечать на провокацию.
—Давай просто уйдем, Йа Ним?—закидывая тяжелую руку мне на плечи, тот наваливается, когда сам пытается заглянуть мне в глаза своими собачьими угольками,—И я всё объясню,—поджимая губы, тот скалится на фыркающую реакцию Юнги.
—Тоже будешь меня бить?—не скидываю его руку с себя ибо всем телом чувствую, как ему и без этого тяжело стоять.
Мин, скептически наблюдая за нами, валится на диван и почти бесшумно скулит, когда боль в теле отдает ломотой.
—Что ты ей объяснишь? Опять наврешь с три короба?—хриплым голосом встревает журналист, болезненно хмыкая, когда Чонгук закатывает глаза, извилисто поворачиваясь и молча подавляя тяжёлым взглядом попытки парня испортить его переговоры.
—Пошли,—уже просто настойчиво толкая меня на выход, тот продолжает нагло опираться на меня, театрально прихрамывая, и я поддаюсь, напоследок оглядываясь на Юнги.
Широко раскинув ноги, тот безэмоционально провожает меня потухшим разочарованным взглядом, на его идиотской кофте красное пятно крови, которое он навряд ли сведет. На лице еще пущее месево.
И мне вроде жаль, а вроде бы и нет.
***
—Прекрати,—согнувшись под парнем я наконец не выдерживаю его тяжести и останавливаюсь посреди пустого учебного коридора,—Ты ведь можешь идти нормально,—он округляет глаза, выпрямляясь,—Зачем ломать комедию?—раздраженно отшагиваю, чтобы он перестал на меня опираться.
—Если знала, что могу, зачем тащила?—разминая лопатки, тот действительно возобновляет ход обычным не хромым шагом.
—Надеялась, что у тебя совесть проснется,—металлическая скрежещая нотка проскальзывает в моем голосе, и я иду чуть позади,—Но проснулся лишь актерский талант,—или он всегда в тебе был.
Шатен молча продолжает путь до общежития, пока я пялюсь в черный материал его кожаной куртки, которая без единой складки растянулась на его широкой спине.
Когда мы оказываемся в смежном холле, и передо мной встает выбор, идти ли в мужское крыло за ним, я предпочитаю не корчить драму и сразу после его кивка следую за мужской фигурой.
Дверь хлопает, замок закрывается. Чонгук шарится в ящиках и достает аптечку, которую кидает на кровать, и кивком предлагает сесть; что я и делаю.
Со скрипом деревянных ножек об пол тот подтаскивает стул к краю кровати и усаживается на него, с ожиданием глядя на меня.
—Ну,—требовательно глядя на меня из-под тяжести черных бровей,—Лечить будешь?—он открывает аптечку, выуживая оттуда бутыль со спиртом и пару ватных тампонов.
—Ты издеваешься надо мной?—вопросительно склоняя голову на бок, я вырываю из его рук бутылек, поддаваясь зрительным манипуляциям в который раз.
Смачно лью на вату горючую жидкость, с трудом сдерживаюсь, чтобы не сделать пару глотков самой; ведь как мне тошно сейчас смотреть ему прямо в лицо, когда в голове одна за другой противоречивые мысли, говорящие мне, какой он паршивец, и как сделал мне больно.
Я с силой прижимаю пропитанную спиртом ватку к рассеченной брови парня, от чего он шипит, отстраняясь.
—Полегче,—цедит он, с опаской наклоняясь обратно и опираясь руками на матрац по обе стороны от меня, из-за чего его лицо оказывается запредельно близко к моему,—Подуй,—еле слышно говорит он, морща лоб.
Я стискиваю зубы и уже мягче провожу ватой под нижней губой. Когда Чон в очередной раз корчится от неприятного щипания, я всё-таки вытягиваю губы в трубочку и пускаю слабый поток прохладного воздуха на рану. Его лицо расслабляется, и он открывает глаза.
—Он же тебе всё рассказал?—как-то не вовремя проверяет достоверность факта.
—Сначала набросился, а потом уточнил?—скупо выдаю я, не отвлекаясь от обработки рассечений на смуглой коже надзирателя,—Всё,—откладывая окровавленный ватный диск, я отстраняюсь, но Чонгук продолжает опираться на кровать, пока в чёрных зрачках его блещет непонятная мне эмоция.
—Нет, не всё,—он резко встает и, не отрывая от меня своего остекленелого взгляда, стягивает серую футболку с широких плеч одним простым действием.
Совсем смущенная и раскрасневшаяся, и одновременно слишком разозленная и уже максимально выведенная из себя, я подрываюсь, не в силах выдерживать столь сильный натиск его наглости и извращенности в такой жалкий для него момент. Этим действием он только закопал себя еще глубже в приготовленной погребальной почве в моей голове.
—Тут тоже есть,—не успеваю я вскрикнуть сотни обзывательств его похабному поведению, как мой взгляд опускается ниже его отрешенного растерянного лица на огромные красные с фиолетовым отливом ссадины и почти гематомы на ребрах, грудной клетке и животе.
Боюсь представить, что осталось на худощавом теле Юнги.
Я медленно подшагиваю к парню, он тяжело вздыхает и вздрагивает, когда я прикасаюсь холодными пальцами к его разгоряченной коже на груди багрового оттенка.
—Нужен лёд,—выдавливаю я из себя, отстраняясь от Чона и направляясь к мини бару, где точно найдётся что-нибудь холодное.
—Почему ты не сказала мне сразу, что всё узнала?—поворачиваясь не полностью, через плечо, он сухо и задумчиво задает мне вопрос, на который не так просто дать ответ.
—А что я должна была тебе сказать?—заглядывая в небольшой холодильник, выбираю между холодной бутылкой с водой и стеклянной бутылкой с шампанским,—"Чон Чонгук, ты что, всё это время мне лгал?" или "Ты меня уничтожил своей ложью"? Или, может, "Это из-за тебя я оказалась в этом дерьме"?—с максимально бесстрастной интонацией произношу я, всё-таки выуживая из бара стеклянную бутыль.
Второкурсник переступает с ноги на ногу и разворачивается ко мне лицом, пока я заторможено выпрямляюсь и пытаюсь разглядеть перемену эмоции или проявление угрызений совести. Но он лишь отрешенно выдает:
—Я тогда думал о чем угодно, только не о тебе, уж прости,—без доли вины в словах он пялится на мою реакцию, сужая черные бестолковые глаза.
Я чувствую, как воздух накаляется, мои щеки становятся пунцовыми, и сильнее сжимаю горлышко бутылки. Дыхание тяжелеет, а в глазах неистово щиплет, и я уже не в состоянии каждый раз сглатывать ком в горле, который образовывается при каждой обидной реплике Чонгука.
—Ты вообще когда-нибудь обо мне думал, сукин ты сын?!—истерично восклицаю я, со всей силы швыряя в полуголого парня тяжелой бутылкой алкоголя, которую тот с трудом перехватывает, ошарашенно выпучивая глаза,—Где сраные извинения? Где оправдания? Где твой испуг, который так и сочился с твоих круглых глаз при сегодняшней первой встрече?—я продолжаю кричать, всплескивая руками.
—Я ничего тогда не знал о тебе, о каких оправданиях, блять, речь?—возмущенно прикладывая бутылку к груди, он, недоумевая, повышает голос.
—А когда ты явился ко мне пьяный и целовал? Тогда ты меня уже достаточно знал?—я чувствую, как под давлением эмоций мой лоб превращается в гармошку.
—А что я, по-твоему, должен был сделать? Моё признание ничего бы не изменило? Я работаю на Чхве, он бы оставил всё как есть,—перебивая меня своим низким взвинченным голосом, он раздраженно шагает по комнате.
—Ты даже не чувствуешь себя виноватым. Я всё это время ненавидела парня в чёрной толстовке и гнилую систему, при которой живу,—я почти задыхаюсь в собственной злости, делая паузу для передышки,—А надо было ненавидеть тебя,—мои глаза переполнены солью, что та наконец прорывается, стекая дорожками по щекам.
Парень опешивает. Он открывает рот, затем снова смыкает губы. Сводит и разводит брови. Но продолжает быстро и часто дышать, глядя мне прямо в глаза.
—А ты разве не ненавидела?—наконец вступает он,—Будто изначально всё знала, но продолжала прикидываться жертвой,—я вытираю тыльной стороной ладони слезы, совершенно не зная, что ответить.
—Заткнись, Чонгук,—стирая сопли рукавом, я скалюсь,—Просто. Нахрен. Заткнись,—запрокидываю голову, глубоко вдыхая,—Ты действительно такой, каким изначально мне казался. Ты всегда таким был. И мне не следовало. Категорически не следовало в этом даже сомневаться. Приближаться к тебе. Верить тебе,—громкий всхлип, и полное его едкое молчание,—Ты подстилка, бабник, эгоист и лжец,—дрожащий и протяжный выдох.
—Всё сказала?—проявляя желваки, он откидывает шампанское на кровать, ступая по махровому ковру ко мне. Почти уже тянет руку к раскрасневшимся влажным щекам, когда я отстраняюсь.
—Нет,—продолжаю я,—Ты самая большая моя ошибка,—парень останавливается, на лице его я наконец вижу тот самый страх, что и в глазах убегающего из разбитого окна вандала.
Теперь всё.