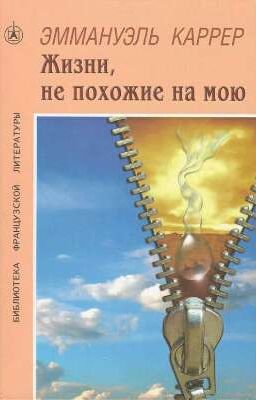10.
Последняя фраза и то, как она была сказана, встревожили меня не на шутку. В голосе Этьена звучала невероятная гордость, приправленная странной смесью беспокойства и радости. Это беспокойство мне знакомо, я легко узнаю тех, в кого оно вселяется исподтишка, в толпе, в темноте — это мои братья, но вот радость, что примешивалась к ней, серьезно озадачила меня. Чувствовалось, что говоривший был человеком легковозбудимым, беспокойным, постоянно устремленным за чем-то ускользающим от него, и в то же время это нечто было неотъемлемой частью его непоколебимой веры в себя. Объективность, благоразумие, умение владеть собой отступили на задний план, он черпал силу в собственном страхе и сеял его вокруг себя. Непонятно как зараженный им, я понял, что вот-вот должно произойти какое-то событие.
Первые фразы Этьена я привел по памяти: за их буквальную точность я не ручаюсь, но в целом их смысл был именно таков. Потом у меня в памяти все смешалось, как смешалось все в его речи. Он говорил о правосудии, о том, как они с Жюльетт отправляли его. В суде Вьена они занимались, главным образом, жилищными вопросами и делами по кредитным задолженностям, фигурантами которых выступают бедные и богатые, слабые и сильные. При этом им нравились сложные дела — не те, что рядами папок оседали на полках, а те, что запоминались надолго и создавали прецеденты. По его словам, Жюльетт не понравились бы высказывания, будто она всегда принимала сторону бедных: это было бы слишком просто и слишком романтично, а главное — не отвечало бы интересам правосудия, поэтому она никогда не изменяла своему профессиональному долгу. Она бы сказала, что стоит на стороне закона, но она стала, они оба стали виртуозами в искусстве применения права во всех его тонкостях. Они могли сутками разбирать по косточкам график погашения долга, перелопачивали горы специальной литературы в поисках давней инструкции, о которой никто бы никогда не вспомнил, передавали материалы в Европейский суд, доказывая, что сложение процента ссуды и штрафных неустоек, практикуемое некоторыми банками, с лихвой покрывает размер ссуды, и такая беззастенчивая обдираловка не только аморальна, но и незаконна. Их судебные постановления публиковались, становились предметами обсуждения и ожесточенных нападок. Их оскорбляли и обливали грязью в «Даллозе»[11].В судебной системе Франции начала XX века суд малой инстанции Вьена занимал важное место — он был своеобразной юридической лабораторией. Специалистов интересовало, какой очередной сюрприз преподнесут им двое хромых судей из Вьена. Да, они отличались еще и этим: оба хромали, оба в подростковом возрасте болели раком, но смогли победить его. Объединенные общим недугом и осознанием того, что им пришлось пережить, они нашли общий язык с первого же дня. С этого момента я начал понимать: в основе образа мыслей и манеры речи Этьена лежал метод свободных ассоциаций, которым он обязан, как мне кажется, не столько учебе на юридическом факультете, сколько опытом посещения психоаналитика. Но во время нашей первой встречи я терялся в его резких переходах от обсуждения какого-то вопроса юридической техники к глубоко личному воспоминанию, связанному с его хромотой, болезнью, или теми же проблемами Жюльетт. Рак разрушил их и возродил, а когда болезнь вновь взялась за Жюльетт, вступить с нейв схватку пришлось и Этьенну. Вокруг Жюльетт возникла пустота, которую не смогли заполнить ни Патрис, ни семья. Это оказалось под силу лишь ему одному, и из этой пустоты он сейчас говорил с нами. Что он хотел сообщить нам? Наверное, ничего хорошего. Вряд ли он скажет, что Жюльетт была мужественной женщиной, настоящим бойцом, что она любила нас и умерла счастливой. Все это мы могли услышать от других людей. Он говорил о другом, о том, что ускользало не только от нас, но и от него самого, и вместе стем наполняло залитую солнцем гостиную своим подавляющим, однако вовсе не печальным присутствием. Я почувствовал его знак в тот самый момент, когда Этьен упомянулоб ужасе первой ночи, проведенной в больнице в полном одиночестве, когда он узнал, что тяжело, смертельно болен, и отныне это знание — неотъемлемая часть его жизни. Тогда он пережил чувства, подобные тем, что испытывает свидетель глобального катаклизма, всеобщего разрушения, чудовищной метаморфозы. Это было полное физическое уничтожение, а, возможно, закладка фундамента иного существования. Другие подробности той встречи уже стерлись из моей памяти, однако я хорошо помню, как во время прощания, когда мы по очереди пожимали руку хозяину дома, он обратился ко мне. За время нашего визита он ничем не показал, что знает меня как писателя, зато теперь он посмотрел мне в глаза и громко, так, чтобы слышали все остальные, сказал: «Вам стоит о ней подумать, о проблеме первой ночи. Возможно, эта тема для вас».
Наша компания, ошеломленная результатами визита к судье, вышла на улицу. Мы с Элен решили ехать домой поездом, остальные возвращались в Розье — им еще предстояло участвовать в похоронах. По пешеходной улице мы отправились на вокзал Перраш, миновав большую площадь Камо. Воскресенье, два часа пополудни, невыносимая жара. Состоятельные горожане обедали дома, те, кто был победнее, отдыхали на зеленых газонах. В ожидании поезда, мы перекусили бутербродами, устроившись за столиком на террасе перед кафе. После расставания с остальными членами семьи мы не обмолвились ни словом. То, что произошло за последние два часа, потрясло меня, и в то же время — не подберу другого слова — воодушевило. Я хотел сказать об этом Элен, но побоялся, что в данных обстоятельствах мой энтузиазм будет выглядеть неуместным. Кроме того, я не был уверен, что Этьен понравился ей так же, как мне. В какой-то момент она вела себя почти враждебно по отношению к нему. По его словам, он обещал Жюльетт по очереди брать ее девочек на стажировку. «Подождите-ка, — возразила Элен, — еще слишком рано говорить об этом, к тому же, из уважения к памяти их матери, девочкам не стоит навязывать профессию юриста, если им хочется заниматься чем-то другим». «Их никто и не заставляет становиться юристами, — спокойно ответил Этьен. — Я говорю только о краткосрочной практике — всего несколько дней — обычной для учащихся лицея». Пока он говорил, я чувствовал, как Элен сердится и теряет терпение. Происходящее напоминало мне ситуацию, когда вы смотрите любимый фильм в присутствии человека, равнодушного к происходящему на экране: я хорошо видел, что именно задело ее в словах Этьена. Рискнув нарушить молчание, чтобы сказать: «Мне понравился этот парень», я ожидал, что она ответит: «Тот еще католик». Для Элен, как для многих людей, выросших в католической среде, такая оценка носила крайне негативный характер. В отличие от меня. Но она промолчала. Этьен тронул ее сердце, точнее, ее тронули слова, сказанные им в адрес Жюльетт. Элен заинтересовалась Этьеном, поскольку тот был другом и доверенным лицом ее сестры. Что касается меня, то тут все было иначе: именно рассказ Этьена пробудил во мне интерес к личности Жюльетт.
Тем не менее, Элен заметила, что он признался в любви к Жюльетт, хотя и не сказал этого прямо.
На что я ответил: «Не знаю».
Спустя сутки после смерти Жюльетт, я заново обдумал историю, рассказанную Этьеном, и мне в свою очередь захотелось пересказать ее. В дальнейшем у меня появились большие сомнения по поводу этого проекта, почти три года я не вспоминал о нем и считал, что уже никогда не вернусь к нему, но неожиданно ситуация изменилась. Я получил от издателя заказ, мне оставалось только сказать «да». Лежа рядом со спящей Элен, я прикидывал, что напишу небольшую повесть, которая будет читаться за пару часов — примерно столько времени мы провели у Этьена — и передаст эмоции, пережитые тогда мною. В тот момент этот план казался мне вполне конкретным и осуществимым. С технической точки зрения повесть следовало писать в стиле «Изверга»[12],от первого лица, без литературного вымысла и эффектных ходов. В то же время, она должна быть его полной противоположностью, его своеобразным позитивом. Действие происходило в том же районе и в той же среде, люди жили в тех же домах, читали те же книги, имели тех же друзей, только в одном случае мы имели Жан-Клода Романа — воплощение лжи и несчастья, а в другом — Жюльетт и Этьена, пораженных страшным недугом, но, несмотря ни на что, честно отправлявших правосудие и стремившихся к истине. Меня смущало лишь одно странное совпадение: Роман утверждал, что страдает болезнью Ходжкина[13]— под этим благопристойным именем он пытался скрыть обитавшее в нем мерзкое чудовище; примерно тогда же Жюльетт, действительно, боролась с пожиравшим ее лимфогранулематозом.
В свою очередь, Элен решила написать траурную речь для похорон. Мы обсудили эту идею, и я помог ей привести в порядок разрозненные мысли. Элен хотела сказать, что на всем протяжении своей незаметной, спокойной жизни — так говорила Жюльетт, хотя эти определения были далеки от действительности, — ее сестра постоянно стояла перед проблемой выбора. Она не тянула с принятием решений, а приняв, уже не отступала от них. Жюльетт дорожила своим выбором: профессией, мужем, семьей, домом, совместной жизнью — всем, кроме болезни. Эта жизнь принадлежала ей, и она никогда не претендовала на другую: ей с избытком хватало своей. Для Элен такой подход имел особое значение, вероятно, потому, что резко отличался от сложившегося у нее хаотичного восприятия собственной жизни. В то же время ее тревожили бессмысленные фрагменты каких-то смутных воспоминаний. В отличие от людей, обожающих подкармливать своих близких вкусненьким, Элен задаривала тех, кого любила, всякими шмотками. Она говорила: «Мне всегда хотелось подарить Жюльетт красивую сумочку, но, уже стоя на пороге бутика, я вспоминала, что костыли помешают ей носить сумочку. Но я могла бы купить ей очень красивый рюкзак вместо тех бесформенных торб, что она таскает. Могла бы. Мне не нравится ее невзрачное барахло, да и я хороша: дарила ей так мало красивых вещей. Мой последний подарок- парик — был просто ужасен. И еще: в детстве я всегда завидовала ей, потому что она была меньше меня и красивее. Да, можешь мне поверить, ты же не видел ее раньше, но я покажу». Она шла за альбомами и раскладывала их на кухонном столе. Мы с ней уже листали их, когда распаковывали коробки после переезда, но тогда я обращал внимание только на Элен. Я рассматривал фотографии Жюльетт, сделанные в последние годы, в детстве, юности… Да, она действительно была красива. Не знаю, красивее ли Элен, я так не думаю, но все равно могу с полным правом назвать ее красавицей и совсем не такой суровой, какой она представлялась мне из-за своего физического недостатка и профессии. Я видел ее улыбку, костыли, стоящие поблизости, а главное, я видел живую, привлекательную женщину, которую переполняла жажда жизни. Тогда-то я и рассказал Элен о своем проекте. Я боялся, что она почувствует себя оскорбленной. Еще бы: ее родная сестра, которую я почти не знал, только что умерла, и тут — хоп! — я собираюсь писать о ней книгу. Не скрою, сначала Элен была удивлена, но потом одобрила мое решение. Жизнь подвела меня к нужному месту, Этьен показал его мне, и я его занял.
На следующий день, за завтраком, Элен расхохоталась и сказала: «Ну, ты даешь! Из всех, кого я знаю, ты единственный, кому могло прийти в голову, будто история дружбы двух хромых, да еще больных раком юристов из суда малой инстанции Вьена — это сюжет, на котором можно заработать. Мало того, что они не спят вместе, так в конце она еще и умирает. Я верно излагаю? Это и есть твоя история?»
Я кивнул головой: да.
~~~
Процедура была такой: в восемь утра я садился на поезд на Лионском вокзале, в десять часов выходил в Перраше и спустя четверть часа звонил в дверь Этьена. Он варил кофе, мы устраивались на кухне, я открывал блокнот, и он начинал говорить. Когда я писал «Изверга», мне приходилось беседовать с людьми, имевшими отношение к делу Романа, и везде, будь то Лион или округ Жекс, я старался не делать записей из опасения разрушить хрупкое доверие, возникавшее между мной и моими собеседниками. Вернувшись в отель, я записывал то, что мне удалось запомнить. С Этьеном мне не нужно было маскироваться. В общении с ним, а потом с Патрисом, я чувствовал себя свободно, не выбирал слов и не боялся сделать неверный шаг, способный оттолкнуть их и, тем самым, помешать моей работе. В день похорон я приехал к нему, чтобы сообщить о своем решении написать повесть о нем и о Жюльетт и договориться о встрече для серьезного разговора. Этьен ничуть не удивился, достал записную книжку, перелистал последние страницы и предложил встретиться в пятницу, 1 июля. Так начался наш совместный проект. Этьен должен был рассказывать о прожитой жизни, что он и делал, не скрывая своего удовольствия. Вообще, он любил рассказывать о себе. «Это мой способ общения, — заметил он и с завидной долей проницательности добавил: — как, впрочем, и ваш тоже». Он знал, что говоря о нем, я поневоле буду говорить о себе. Это нисколько не смущало его, напротив. Полагаю, его вообще ничто не смущало, и как-то незаметно я стал испытывать то же самое. Не часто приходится рассказывать едва знакомому человеку о пережитом, о том, кто ты и что ты. Обычно такое случается в ходе романтического свидания или на приеме у психоаналитика, причем происходит это абсолютно естественно и добровольно. Как я уже говорил, манера общения Этьена отличалась свободой, ассоциативностью и резкими переходами от одной темы к другой, от одного времени к другому. Что касается меня, то я предпочитаю хронологический принцип, больше того, я просто помешан на хронологии. Эллипсис устраивает меня лишь как риторический прием, должным образом оформленный и управляемый, в противном случае он приводит меня в ужас. Возможно, из-за прорехи в моей жизни и стремлении залатать ее как можно прочнее, мне не обойтись без ориентиров типа: предшествующий вторник, следующая ночь, тремя неделями раньше… Чтобы не пропустить ничего важного, я постоянно просил Этьена излагать события по порядку, и это заставило меня начать рассказ с воспоминания о его отце.
Он преподавал в университете астрономию, математику, статистику, философию наук и семиотику, но при всей широте его интересов ни одна из этих дисциплин не стала для него основной, и ни в одной из них он не преуспел. Воспитанный на точных науках, он тянулся к реальной жизни, к человеку со свойственными ему сомнениями и проблемами. В шестидесятые годы его пригласили учить рабочих завода «Пежо» в Монбельяре, где семья жены владела огромным особняком с запутанной планировкой — протопить его было практически невозможно, и впоследствии дом пришлось продать. Под обучением работодатели понимали научную подготовку, поэтому брали на работу учителя математики, но тот считал себя просветителем и преподавал рабочим философию, политологию и основы нравственности. Через несколько месяцев его уволили, как случалось и в других местах, но даже за короткое время ему удавалось оставить свой отпечаток в душах лучших учеников. Он был типичным социал-католиком, читателем Симоны Вейль[14]и Мориса Клавеля[15],верным сторонником Рокара[16],членом Объединенной социалистической партии, под флагом которой пошел на выборы в законодательные органы департамента Коррез, семейной вотчины по отцовской линии. Выборы успеха не принесли, однако его соперник — лидер местных сторонников Жака Ширака — взял верх только во втором туре. Добрый христианин среди атеистов, в компании верующих он превращался в ярого антиклерикала, готового утверждать, что Иисус спал со своим любимым учеником Иоанном. В нем странным образом уживались бунтарь, обреченный быть на плохом счету у любой власти, францисканец, способный поселиться хоть в заводском цеху или шагать в сандалиях, не разбирая пути, и буржуа, стремящийся к успеху и остро воспринимающий свои неудачи. Теперь, оглядываясь в прошлое, Этьен считает, что лет десять, как минимум, отец прожил в глубокой депрессии. Его эксцентричность приобретала горький привкус: не очень-то приятно было, прогуливаясь с приятелями, встретить его на улице в пиджаке с галстуком, черных носках с туфлями и шортах «Адидас», из которых торчали худые волосатые ноги. Вместе с тем, ему был чужд эгоизм, и Этьен не мог припомнить за ним ни одного низкого поступка. Из древнееврейских предписаний он усвоил для себя правило отдавать десять процентов заработанного беднякам, и, если в конце года не мог отложить этих десяти процентов, то занимал их, чтобы выполнить свое обязательство. Он выглядел грустным и уставшим от жизни, но чувство справедливости никогда не покидало его — Этьену не на что было пожаловаться. По его словам, он лишь придерживается выбора, сделанного раньше отцом. В отличие от него, Этьен был атеистом, что не мешало ему придерживаться Писания и с теплым чувством вспоминать дом священника в Со, где местный кюре —умнейший человек, стремившийся пробуждать в людях мысли и чувства, — давал ему и его друзьям читать труды дона Элдера Камара[17]и других либеральных теологов. Этьен считал, что отнюдь не случайно трое его друзей, часто бывавших в доме у священника, тоже стали судьями и, в отличие от большинства представителей их поколения, придерживались левых взглядов. В глубине души Этьен, как и его отец, жаждал изменить общество, сделать его чище и справедливее, но при этом хотел быть хитрее отца: пути Дон Кихота он предпочел путь реформиста.
Этьен вернулся к этой теме позже, когда в августе я навещал его в родовом гнезде Ригал ей в департаменте Коррез. Большой дом с узкими оконными проемами, сложенный из крупного бутового камня, принадлежал его семье с XVII века. Именно отец посчитал необходимым выкупить его у родственников и восстановить в первоначальном виде, за исключением отопления и удобств. Вместе с супругой он собирал крестьянскую мебель, хлебные лари, сундуки из темного дерева, готические стулья с высокой спинкой, выглядевшие так, будто сошли с полотен братьев Ленен[18],правда, при их виде не возникало желания присесть и почитать у камина. Этьену нравилось проводить там отпуск, и он никогда не упускал возможность вернуться в отчий дом. Вместе с тем, у него крепла уверенность в том, что в детстве отец стал жертвой сексуальной агрессии. Ему не хватало фактов, чтобы подкрепить свое предположение, и это напомнило мне американскую биографию романиста Филипа К. Дика — в ее основе лежало такое же утверждение, и хотя у автора не было никаких доказательств того, что в детские годы Дик подвергся сексуальному насилию, он считал, что об этом свидетельствуют особенности его личности, и объяснить их можно только перенесенной психологической травмой. Когда я обратил на это обстоятельство внимание Этьена, он согласился со мной и признал, что его выводы не имеет под собой реальной почвы: вероятно, это всего лишь игра воображения, единственное приемлемое объяснение непонятного отвращения отца к физическому контакту. Бог свидетель, он был любящим отцом, более того, он сумел пробудить в своих детях уверенность в себе, но никогда не целовал и не обнимал их. Стоило ему лишь слегка задеть кого-нибудь, как он вздрагивал будто от прикосновения к змее. Возможно, он не подвергался насилию, но несомненно одно — у него имелись серьезные проблемы. Испытывал ли сам Этьен нечто подобное? Сначала последовал отрицательный ответ: нет, все в полном порядке, но потом, поразмыслив, он припомнил, что в школе всегда держался особняком, днем предавался своим мечтам,а по ночам просыпался от жутких кошмаров, и, наконец, признался, что до шестнадцати лет страдал энурезом. Я сразу узнал эти признаки — правда, мочиться в постель я перестал в более раннем возрасте, — и могу сказать: далеко не все у него было в порядке.
Этьен очень рано понял, что хочет стать судьей. Подобная склонность меня заинтересовала. В лицее у нас был такой тип, он мечтал вырасти и стать судьей. Не знаю, сбылась ли его мечта, но сволочь он был порядочная. Мне казалось, что судья в его представлении — тот же фараон, причем такой, какого играл Мишель Буке[19]в фильмах Ива Буассе[20]:двуличный и порочный тип, в руки которому лучше не попадаться. Возможно, я ошибался, возможно, все мы ошибались — неискушенные читатели «Шарли-Эбдо»[21],возможно, тот мальчик был по натуре очень робким, гордился своим призванием, и насмешки больно задевали его, но в итоге он стал замечательным человеком, похожим на Этьена Ригаля. Знай я Этьена в те годы, то, вполне вероятно, опасался бы его тоже. Хотя не знаю, я предпочитаю думать, что мы стали бы друзьями. Одной из причин, побудивших меня к написанию этой истории, стала манера речи Этьена, когда он впервые сказал: «Мы с Жюльетт были великими судьями». В этих словах прозвучала удивительная уверенность и гордость. Так мог говорить артист, понимающий, что его карьера не завершена, впереди еще долгий творческий путь, и вместе с тем осознающий, что у него в активе есть по меньшей мере одна работа, которой можно гордиться независимо от того, что уготовано ему будущим: он сделал свою ставку и выиграл. В то же время меня смущало понятие величия в сочетании с профессией судьи. Если бы мне предложили назвать трех или даже одного великого судью, я бы пришел в замешательство. На слуху были несколько имен, связанных с рядом резонансных дел, освещавшихся в прессе, — Альфан, Ван Рюинбек, Ева Жоли[22]— но они были судебными следователями, а не судьями, ведущими процесс в зале суда, облачившись в мантии с горностаевой отделкой; усилиями романистов и киношников именно последние обрели сомнительную репутацию несимпатичных хранителей буржуазного порядка. И пусть все мы согласны с известным и справедливым постулатом — главное не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь, и что лучше быть хорошим колбасником, чем плохим художником, мы понимаем различие между творческими профессиями и всеми остальными: именно в первых совершенство как совокупность способностей, таланта и харизмы может оцениваться понятиями величия. В правовом контексте я понимаю значение слов великий адвокат, чего не скажу о сочетании великий судебный пристав. И великий судья, право же, ничем не лучше, особенно когда речь идет о члене суда малой инстанции, специализирующемся не на громких уголовных делах, а на тривиальных гражданских тяжбах: стена, принадлежащая двум владениям, опека, задолженность поарендной плате… Скажем так, это заведомо не то, о чем я бы мечтал.
(А тут еще в Библии сказано: «Не судите».)
Объясняя свой выбор, Этьен назвал три мотива: его прельщала возможность решать, что является справедливым, а что нет, и вершить правосудие; он хотел изменить мир, нов то же время занимать в нем достойное место: не беспокоиться о материальном положении, вести респектабельную жизнь; наконец, вынося приговор, судья применяет власть, а он чувствовал если не вкус власти, то, по меньшей мере, тягу к ней.
Я не до конца разобрался с этим нюансом, но он выявил одну характерную черту личности Этьена, и она мне понравилась. Особенно ярко она проявилась в день нашего коллективного визита. Каждый раз, когда Этьена кто-нибудь перебивал — не для того, чтобы возразить, а наоборот, чтобы подтвердить, дополнить или прокомментировать сказанное им, он качал головой и бормотал, мол, это не совсем то, что он имел в виду. Однако, продолжая, он говорил то же самое, почти слово в слово. Мне кажется, такое отрицание было необходимо ему для общения с людьми. Когда отец Жюльетт упомянул о дружбе между Этьеном и его дочерью, тот поморщился и заявил: они были не друзьями, а близкими, что далеко не одно и то же. Спустя какое-то время, узнав его получше, я заметил, что для обозначения их отношений с Жюльетт меня вполне устраивает слово дружба, если же это нечто другое, то тогда я вообще не понимаю, что такое дружба и с чем ее едят. У меня вошло в привычку подтрунивать над его манией отвергать все, сказанное другими, чтобы затем повторить, лишь поменяв слова местами. Этьена это забавляло: всегда приятно, — говорил он, — когда близкие люди видят в наших недостатках лишние поводы любить нас. С того момента он стал все чаще и чаще соглашаться со мной.
~~~
Январь 1981 года. Мне стукнуло двадцать три, я работаю в Индонезии как альтернативщик[23],и там же пишу свой первый роман. Ему восемнадцать, и он заканчивает школу в Со. После экзамена на степень бакалавра дальнейший путь сомнений не вызывает: сначала юридический факультет потом Национальная школа по подготовке и совершенствованию судебных работников. Он играет в теннис. Все еще девственник. И вот уже несколько месяцев испытывает боль в ноге. Сильную боль, и с каждым днем она становится все сильнее и сильнее. После многочисленных, но не очень убедительных консультаций ему делают биопсию, и, получив результат, отец срочно везет Этьена в институт Кюри. Рокового слова он не произносит, но с волнением и тревогой на лице выдавливает: «Биопсия показала наличие подозрительных клеток». В одном из кабинетов цокольного этажа паренька осматривают несколько врачей. «Ну что ж, молодой человек, — говорит один из них, — постараемся сохранить вас в целости и сохранности».
«Ты домой не едешь. Ты остаешься здесь».
«Почему, что случилось?»
«А ты не понял? — удивляется отец, раздосадованный и смущенный тем, что до сына так и не дошла суть проблемы. — У тебя рак».
Посещения родственников разрешены только до восьми часов. Этьен остается один в больничной палате. Ему приносят ужин и таблетку снотворного, скоро погасят свет. Темнеет. Наступает его первая ночь в больнице. Именно о ней он говорил в день нашей первой встречи и теперь вновь возвращается к ней: для него очень важно рассказать мне все в мельчайших подробностях.
Он лежит на кровати в одних трусах: отец не думал, что все произойдет так быстро, и Этьена оставят в больнице, поэтому не взял пижаму. Этьен приподнял одеяло и посмотрел на свои ноги — нормальные ноги юноши спортивного телосложения. Только в левой притаилась болезнь, постепенно точившая ее изнутри.
Несколькими месяцами раньше он прочитал роман Джорджа Оруэлла «1984». Одна из сцен буквально потрясла его. Главный герой, Уинстон Смит, попал в руки политической полиции, и офицер, который вел допрос, объяснил, что его работа состоит в том, чтобы подобрать к каждому подозреваемому свой ключик — определить, чего тот боится больше всего на свете. Людей можно пытать, вырывать им ногти или яички, но всегда найдутся такие, кто выдержит боль, причем сразу и не скажешь, кто на это способен: настоящие герои — не всегда те, кто ими кажется. Но стоит узнать, чего больше всего боится человек, и дело сделано. От героизма не остается и следа, о сопротивлении нет и речи, когда приводят его жену или ребенка и спрашивают, что лучше — применить пытку к нему самому или к его близким? И каким бы храбрым он ни был, как бы не любил своих родных, человек предпочтет избежать мучений. У каждого есть свои, личные страхи, противостоять которым просто невозможно. Что касается Смита, офицер провел дознание и выяснил, что невыносимым кошмаром для него является крыса в клетке; клетку подносят к его лицу, открывают, и голодная крыса бросается на него, ее острые зубы впиваются в щеки, нос, наконец, находят лакомые кусочки — глаза, и тут же их вырывают.
В первую ночь именно этот образ терзал Этьена. Только крыса находилась внутри его и пожирала его живьем изнутри. Она начала с голени, теперь поднимается вверх, затем прогрызет себе путь во внутренности, по позвоночнику поползет дальше и, наконец, доберется до самого мозга. Странно, но он ничего не чувствовал, словно тело и боль, не отпускавшая его уже несколько месяцев, куда-то бесследно исчезли, однако сам образ был настолько ужасен, что Этьену хотелось умереть, лишь бы избавиться от него, не дать ему укорениться. Он страстно желал, чтобы его мозг угас, и все остановилось, перестало существовать. Тем не менее, барахтаясь в этом кошмаре, он уцепился за спасительную мысль: я любой ценой должен найти выход, чтобы пережить эту ночь: другой образ, другие слова. Если он доживет до утра, произойдет нечто такое, что, вероятно, не спасет его, но избавит от невыносимого страха. Не без помощи снотворного он погрузился в полузабытье, на дне которого рыскала ощерившаяся ненасытная крыса. Он то засыпал, то просыпался; простыни насквозь промокли от пота. И когда забрезжил рассвет, крысы уже не было. Она ушла, и больше не возвращалась. Ее место заняла фраза. Она обрела для него видимую форму, словно была огнем начертана перед ним на стене.
Этьен так и не произнес ее. Вместо нее звучали другие, но все они казались мне приближениями, парафразами. На мой взгляд, ни одна из них не обладала той мощью убедительности и действенности, о которой он говорил. Я записал в блокнот: раковые клетки такая же часть тебя, как и здоровые. Эти раковые клетки — ты сам. Они вовсе не чужеродное тело, не крыса, что коварно внедрилась в твое тело. Они — часть тебя. Ты не можешь ненавидеть свою болезнь, ибо ты не можешь ненавидеть самого себя (еще как можешь, подумал я, но оставил эту мысль при себе). Твой рак — не враг, это ты сам.
Я понял, о чем говорил мне Этьен: эти фразы, и в особенности та, что скрывалась за ними, были решающими. Полагаю, он вспомнил нечто такое, что звучало совершенно естественно для него, но не имело ровно никакого значения для меня. Думаю, надо подождать, мы еще не закончили с первой ночью.