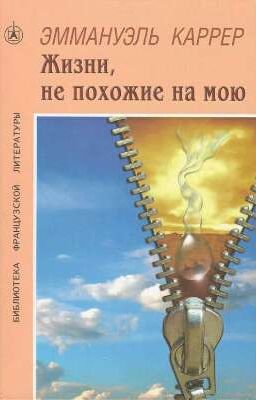9.
Наша с Элен очередь подошла ближе к вечеру. Я заранее предполагал, что мне придется вести машину, поэтому накануне постарался запомнить маршрут, чтобы доехать до больницы без ошибок и проволочек. Я мало чем мог помочь, поэтому считал делом чести быть хотя бы хорошим водителем. Мы вошли через знакомые двустворчатые двери, миновали те же пустынные коридоры, освещенные холодным неоновым светом, и надолго задержались перед переговорным устройством в ожидании разрешения пройти в реанимационное отделение. Когда мы вошли в палату, Патрис сидел на кровати рядом с женой, положив руку ей под голову. Жюльетт была без сознания, ее дыхание оставалось затрудненным и частым. Чтобы Элен смогла побыть наедине с сестрой, Патрис вышел из палаты. Элен присела на край кровати и сжала безжизненную руку Жюльетт, потом нежно коснулась ее лица. Время, отведенное на визит, как-то незаметно подошло к концу. Выйдя из палаты, Элен спросила Патриса, что говорят врачи. Тот ответил, что, по их мнению, смерть наступит этой ночью, но никто не мог сказать, как долго продлится агония. Тогда, сказала Элен, нужно, чтобы они помогли ей. Партис кивнул головой и вернулся в палату.
Дежурным врачом оказался молодой, но уже лысый мужчина рассудительного вида с очками в тонкой золотистой оправе. Кроме него в кабинете была медсестра-блондинка, но в отличие от врача, она прямо-таки лучилась теплом. Приняв предложение присесть, Элен сказала: «Вы, должно быть, догадываетесь, о чем я хочу вас попросить». Врач ответил едва заметным кивком, означавшим не столько «да», сколько предложение продолжать, и Элен со слезами на глазах продолжила разговор. Она спросила, сколько времени осталось ее сестре, на что врач ответил, что не может сказать точно, но уверен, что счет идет уже не на дни, а на часы, она находится на грани жизни и смерти. «Ей нужно помочь, сейчас…» — повторила Элен, и в ответ услышала: «Мы и так это делаем». Элен оставила номер своего мобильника и попросила позвонить ей, когда все закончится.
На обратной дороге ее начали мучать сомнения: достаточно ли ясно она выразила свою мысль в разговоре с врачом, его ответ тоже казался ей довольно неопределенным. Я постарался успокоить ее: ни с одной из сторон двусмысленности в словах не было. Элен беспокоило также рвение медсестры, упоминавшей о возможном улучшении состоянияпациентки. По ее словам выходило, что Жюльетт могла протянуть еще сутки или даже двое. Но Элен считала, что продлевать мучения больной на такой срок просто негуманно. Жюльетт уже попрощалась с родными, Патрис неотлучно находился рядом с ней: момент был самый подходящий. Лучшее, что могла сделать медицина на этом этапе — не упустить его.
Мы остановились на главной улице Вьенна, чтобы купить сигарет и выпить по бокалу вина на террасе небольшого кафе. Мимо нас неспешно шли легко одетые горожане. Маленький провинциальный городок окутывали теплые вечерние сумерки, все вокруг пахло летом и югом. Движение транспорта не напрягало вовсе, если не считать нескольких местных юнцов на мотоциклах, пронесшихся по улице с оглушительным ревом моторов. Потом, громко сигналя клаксонами, проехал свадебный кортеж с белыми лентами на антеннах автомобилей, а спустя несколько минут этот «парад» завершила рекламная машина, объявлявшая о вечернем кукольном представлении. «Состоится встреча в верхах! — орал в рупор парень, стоявший в кузове грузовичка. — Встречаются Петрушка и Винни-Пух, такое событие нельзя пропустить!» Складывалось впечатление, что и здесь, как в случае со школьными праздниками, сценарист особо не напрягался.
Мы заговорили о Патрисе. Как он справится один с тремя девочками, да еще без надежного источника средств к существованию? На комиксы, которые он рисовал в своей подвальной мастерской, особо рассчитывать не приходилось, семью содержала Жюльетт на свою зарплату судьи, но, даже если малышкам ни в чем не отказывали, в конце каждогомесяца им приходилось туговато. Конечно, выручит страховка, она поможет выплатить кредит за дом, но Патрису придется искать работу. Доброта и скромность хороши, но это не профессия. Фирму по связям с общественностью Патрис вряд ли учредит, но на него всегда можно положиться: он сделает все, что нужно. Пройдет время, и он снова женится. Такой симпатичный и добрый парень обязательно найдет хорошую женщину и научится любить ее, как любил раньше Жюльетт: он не замкнется в трауре — склонности к нездоровой самоизоляции у него не замечалось. Однако, всему свое время, предсказывать будущее — дело неблагодарное. А пока Патрис был здесь, обнимал свою угасающую жену и, сколь долгой ни была бы ее агония, никто не сомневался, что он останется с ней до конца, и Жюльетт уйдет с миром и чувством защищенности. Мне казалось, нет ничего более ценного, чем это чувство и осознание возможности умереть на руках любящего человека. Элен передала мне разговор Жюльетт с Сесиль, состоявшийся накануне, незадолго до нашего приезда, когда Жюльетт еще могла говорить. Она радовалась, что ее скромная жизнь удалась. Сначала я подумал, что это были слова утешения, потом они показались мне искренними, но в итоге я понял, что это — чистая правда. Я вспомнил знаменитую фразу Скотта Фицджеральда: «Любая жизнь есть процесс разрушения», и усомнился в ее справедливости. Все же, как мне кажется, не любая. Жизнь самого Фицджеральда — возможно. Моя — может быть. Раньше я опасался этого куда больше, чем теперь.Кроме того, никто не знает, что происходит в последний момент. Жизни многих людей на первый взгляд кажутся не состоявшимися, но такое впечатление обманчиво, потому что у последней черты они меняются, проявляя свою истинную, до сих пор ускользавшую от нас суть. У других жизнь, казалось бы, сложилась просто замечательно, хотя на самом деле это было бесконечное падение в ад. Когда Жюльетт давала оценку своему жизненному пути, я ей верил: доказательством ее правоты являлся образ смертного ложа, на котором Партис бережно обнимал свою жену. Я сказал Элен: «Ты знаешь, со мной что-то произошло. Если бы несколько месяцев тому назад я узнал, что у меня рак, и я скоро умру, если бы я, подобно Жюльетт, задал себе вопрос, удалась ли моя жизнь, я не смог бы ответить, как она. Я бы сказал: нет, моя жизнь не состоялась. Но кое-чего мне удалось добиться: у меня есть двое красивых и умных сыновей, я написал несколько книг и в них воплотил самого себя. Я сделал все, что мог, использовав доступные силы и средства, так что мой итог отнюдь не нулевой. Но у меня не будет главного — любви. Да, меня любили, но я не научился любить — или не сумел, что одно и то же. Никто не смог найти опору в моей любви, как не найду ее и я в любви близких в конце своего пути. Так бы я сказал до цунами. Но после волны я выбрал тебя, мы выбрали друг друга, и все изменилось. Ты здесь, рядом со мной и, если бы завтра мне пришлось умереть, я бы сказал, как Жюльетт, что моя жизнь удалась».
~~~
У меня перед глазами лежат четыре листка, вырванные из блокнота, с подробнейшим описанием номера 304 в отеле «Дю Миди» в небольшой деревушке Понт-Эвек, что в департаменте Изер. Я должен был принять участие в коллективном написании книги в честь моего друга Оливье Ролена. Годом раньше он опубликовал роман с детальным описанием гостиничных номеров в разных странах мира. Эти номера служили декорациями для отдельных новелл, с действующими лицами которых — хостессами баров, торговцами оружием и прочими темными личностями — автору доводилось пьянствовать. Издателю пришла в голову идея продолжить игру, предложив писателям, дружившим с Оливье, описать какой-нибудь гостиничный номер и на его фоне дать волю своей фантазии. В один из моментов той бесконечной ночи, когда мы ждали звонка с сообщением о смерти Жюльетт, я рассказал об этом заказе Элен, надеясь немного отвлечь ее от мрачных мыслей, при этом заметил, что колеблюсь в выборе отеля. Характер затеи, романтический и игровой, предполагал довольно экзотическое заведение. В этом плане у меня в запасе была гостиница «Вятка» в российском городке Котельнич: идеальный пример брежневского стиля. Там не меняли сгоревших лампочек ни разу с момента ее открытия. Если сложить все дни, что я провел в «Вятке» в ходе неоднократных посещений города, то получится три-четыре месяца. Прямо противоположным примером является единственный отель, где я жил по-настоящему — несколько недель, — роскошный «Интерконтиненталь» в Гонконге. Тогда мы снимали «Усы», и на весь период съемок ко мне приехала Элен. Где бы мы ни находились — в вестибюле отеля, в нашем номере на двадцать восьмом этаже с панорамным видом на залив, в лифте, летящем вверх или вниз, — нам казалось, будто мы герои из «Трудностей перевода»[10].Отель в Йокогаме, как я полагал, должен был быть примерно таким же, и я пообещал себе, в качестве приятного времяпрепровождения, описать свой номер. Если не поедешь в Йокогаму, сказала Элен, можешь вместо него описать хотя бы этот, прямо сейчас. Мы хоть чем-то займемся. Я достал блокнот, и мы приступили к работе с не меньшим рвением, чем тогда, когда репетировали эротическую сцену в моем фильме. Я обратил внимание, что вся комната площадью примерно пятнадцать квадратных метров, была оклеена желтыми обоями, в том числе и потолок. Элен подчеркнула один существенный нюанс: изначально обои были не желтые, а белые с крупными рельефными точками, имитирующими тканый узор, и лишь потом их покрасили в желтый цвет. Покончив с обоями, мы перешли к столярке: дверям, окнам, плинтусам, изголовью кровати, также окрашенным в желтый цвет, только более насыщенный. В целом номер был желтым, как яичный желток, разнообразие вносили розовые и пастельно-зеленые штрихи на постельном белье и шторах. Эти же цвета присутствовали и на двух литографиях, висящих над кроватью и напротив нее. Отпечатанные в 1995 году фирмой «Нувель Имаж», они обе отражали влияние Матисса вместе с югославским примитивизмом. Опершись на локоть, я торопливо записывал замечания Элен: она ходила взад-вперед, считала электрические розетки и проверяла, как включается освещение в зависимости от перемещений по номеру; казалось, она все глубже и глубже погружается в свою странную инвентаризацию. Детали я опускаю: это был банальный номер в банальном отеле, хотя весьма хорошо содержавшемся силами очень любезного персонала. Лишь одна вещь пробудила у нас некоторый интерес; она же, кстати, вызвала наибольшие затруднения при ее описании. Я просматриваю свои записи: «Речь идет о встроенном шкафе с двойными дверцами: одна открывается в собственно шкаф, а вторая, под прямым углом, — в гостиничный коридор. Он напоминает окошко для раздачи блюд с двумя полками: верхняя полка служит для столового белья, нижняя — для подносов с завтраком, как на это четко указывают значки, выгравированные на стекле двух маленьких фрамуг. Значки показывают, что и куда именно следует класть, и вместе с тем позволяют видеть, лежат там нужные предметы или нет». Я не уверен, что изложенное тут всем понятно, да ладно, что поделаешь. Мы с Элен долго ломали голову: есть ли у этого — отнюдь не банального — шкафа какое-либо название, способное заменить подобные заковыристые описания. Есть люди, обладающие настоящим талантом в этомплане. Чего ни коснись, они знают, как это называется. Оливье принадлежит как раз к таким, чего не скажешь обо мне, даже Элен может дать мне фору. Не скрою — упомянутое выше слово «фрамуга» принадлежит именно ей.
Рассвело. Мы завершили нашу инвентаризацию, телефон так и не зазвонил. Мысль о том, что ее сестра по-прежнему балансирует между жизнью и смертью, ужасала Элен. Я тоже был не в своей тарелке. Мы задернули шторы, с головой укрылись пледом и, прижавшись друг к другу, забылись беспокойным сном. Телефонный звонок разбудил нас в девятьчасов. Жюльетт умерла в четыре утра.
Антуана, Жака и Мари-Од мы встретили в столовой отеля, куда спустились на завтрак. Сесиль с Патрисом и девочками была в Розье. Мы молчаливо обнялись и обменялись сочувственным пожатием плеча — в нашем круге этот жест был выражением крайней печали. После этого пошел разговор о вещах сугубо практических: о похоронах, кто останется сегодня, как родственники будут сменять друг друга в последующие дни, чтобы позаботиться о Патрисе и малышках; кое-кто уже начал строить планы по приему детей на время летних каникул. Что касается ближайших часов, то программа была уже определена: все едут в Розье, оттуда в больницу — полагаю, кто-то просто сказал: «поедем, навестим Жюльетт», а не «отдадим последний долг» или «поклонимся останкам». Надо отдать должное: местные жители предпочитали говорить по старинке «преставился» или «ушел» вместо современного дубового «умер». После этого предстоит поездка в Лион к коллеге Жюльетт. К коллеге Жюльетт? В день ее смерти? Мы с Элен были несколько удивлены. Да, объяснил Жак, к ее коллеге в суде малой инстанции Вьена. Они были очень близки, особенно в последнее время. Их сближало то, что в молодости она тоже перенесла рак, и в результате ей ампутировали ногу. Именно Жак предложил утром собравшимся членам семьи отправиться к ней, чтобы сообщить о кончине Жюльетт. Такой визит с выражением соболезнования судье-инвалиду показался мне довольно нелепым, но мне оставалось лишь следовать за всеми.
Я ничего не помню о первой встрече с девочками, только что потерявшими свою маму. Кажется, все было тихо и спокойно. Во всяком случае, обошлось без слез и криков. После этого мы отправились в траурный зал больницы. Это было просторное помещение с высоченным потолком, очень светлое — подобие атриума, напоминавшего убранством декорации классической трагедии, с выходами в салоны для прощания с покойными, часовню и туалеты. В последних, кстати, из-за невероятной акустики воду приходилось спускать понемногу. Этим воскресным утром мы были единственными посетителями. Нас встретил какой-то человек в белом халате санитара, усадил в кресла в углу просторного зала и рассказал, как пройдут несколько дней перед похоронами. Как оказалось, это был не санитар, а доброволец, отвечавший за прием родственников умерших. Он предельно четко разграничил обязанности больницы и социальной службы, которую представлял, с одной стороны, и профессионалов похоронного бюро с другой. Больница отвечала за периодические осмотры тела, обеспечивала его транспортировку из морга в помещение, где будет установлен гроб с телом для прощания, и приемлемый внешний вид покойника: он должен быть обмыт, причесан и, при необходимости, подкрашен. Эти услуги были бесплатными, и люди, вроде него, всегда были готовы оказать посильную помощь семьям усопших. Более сложные косметические услуги, потребность в которых могла оказаться необходимой особенно летом, когда похороны происходили не сразу, а через несколько дней, обеспечивались специалистами похоронных бюро и, соответственно, были платными. Доброволец несколько раз перечислил перечни бесплатных и платных услуг, пока не убедился, что его хорошо поняли, и я посчитал это нормальным, если учесть, что на месте семейства Жюльетт могли оказаться не столь собранные люди. Несколько раз в речи мужчины прозвучала фраза «мы здесь для того, чтобы все прошло как можно лучше». Не сомневаюсь: он повторял ее всем посетителям слово в слово, и она была неотъемлемым элементом всего того, что окружает смерть и несчастье. Но и так было видно, что он, действительно, делает все от него зависящее, чтобы траурный ритуал прошел как можно лучше.
С минуты на минуту нас должны были проводить к Жюльетт — ее уже подготовили к нашему визиту, но дочерей к ней привезут лишь во второй половине дня. Матери Патриса пришла в голову идея предложить девочкам выбрать любимое платье Жюльетты, или же то, которое, по их мнению, как нельзя лучше шло их маме. На самом деле, Жюльетт почти не носила платьев, она предпочитала мешковатые и удобные брюки, но при этом следила, чтобы ее девочки всегда были красиво одеты. Они должны выглядеть, как принцессы, говорила она. Так что, неспроста Амели постоянно рисовала принцесс. Утром мать Патриса позвала старших девочек и предложила им выбрать лучшее платье для мамочки, ведь в нем ей придется отправиться в очень далекий путь. Это платье мы привезли в больницу, чтобы именно в нем мать встретила своих ненаглядных малышек. Санитар-доброволец из социальной службы одобрил такое решение и тут же сообщил, что нам очень повезло — его сменщик был превосходным специалистом по макияжу. Мари-Од озабоченно возразила, ведь Жюльетт почти никогда не красилась. Но санитар успокоил ее: на то и есть хороший специалист, чтобы делать свою работу как можно деликатнее, создавать впечатление, что усопшая не накрашена, она просто живая. Прошли десять тягостных, бессодержательных минут, и, когда мы выходили из ритуального зала, появился специалист по макияжу. Предвидя реакцию членов семьи, он принес свои соболезнования и спросил, не желает ли кто-нибудь изнас — может быть, кто-то из сестер — помочь ему подготовить покойницу. Этот акт может показаться тяжким, тут же заметил гример, но он несет в себе большой символический заряд. Впрочем, если в последнюю минуту вызвавшийся не справится с эмоциями, он сам доведет дело до конца. Человек не должен заставлять себя делать то, что ему неприятно. Элен и Сесиль нерешительно переглянулись. В конечном итоге, ни одна, ни другая не пошли помогать гримеру. Я и сегодня вспоминаю этого специалиста: по дороге домой мы с Антуаном и Элен не преминули перемыть ему косточки: парень носил розовые бермуды, был полноват, заметно шепелявил, а крашеной челкой напоминал парикмахера-гомосексуалиста из дешевого бульварного фильма. И лишь теперь, написав эти строки, я задумался: что же заставляло его добровольно приходить по воскресеньям в больницу и подкрашивать трупы, направляя к застывшим безразличным лицам пальцы близких родственников усопших? Возможно, просто стремление быть полезным. Лично для меня такая мотивация куда таинственнее, чем простая извращенность.
Я, как мог, оттягивал этот момент, но вот все мы — восемь человек — стоим на лестнице дома, в котором жил одноногий судья. Старинный, добротный особняк находился на пешеходной улице, выходившей на вокзал Перраш, и я подумал, что отсюда будет удобно уезжать. Узкая каменная лестница круто задиралась вверх, лифта не было и в помине.Мне показалось странным, что одноногий человек живет здесь, однако мы остановились на втором этаже. Кто-то позвонил, дверь открылась, мы по очереди переступали порог, представлялись и пожимали руку хозяину квартиры. На лестнице сработало реле времени, и свет погас. В темноте хозяин не разобрал, есть ли еще кто на площадке, и захлопнул дверь у меня перед носом. Не знаю, почему — мы оба находим это странным — мои отношения с Этьеном Ригалем начались подобным образом. Точно так же я не могу понять, почему мне представлялось, будто судья-инвалид жил бобылем в крошечной темной квартирке, заваленной пыльными папками с материалами старых дел и пропитанной стойким кошачьим запахом. Все было как раз наоборот: квартира оказалась просторной, светлой, обставленной красивой ухоженной мебелью, и не надо было заглядывать в приоткрытую дверь детской, чтобы убедиться — здесь жила дружная семья. Однако жены и детей дома не оказалось, похоже, их попросили пойти прогуляться — Этьен принимал нас в одиночестве. На вид он выглядел лет на сорок с хвостиком, был высок, хорошо сложен. Светло-голубые джинсы гармонировали с серой тенниской. На открытом лице за очками без оправы живо поблескивали ярко-голубые глаза навыкате. Говорил он мягким, высоковатым голосом. Когда Этьен шел впереди, проводя нас в гостиную, было заметно,что он хромает — при опоре на правую ногу заметно подволакивает негнущуюся левую. Окна гостиной выходили на улицу, и через открытые ставни лучи солнца насквозь пронизывали всю комнату, заливая ярким светом красивый паркет старинной работы. Мы расселись попарно: родители устроились в двух сдвинутых креслах, мы с Элен скромно примостились на одном конце длиннющего канапе, а Антуан с женой на другом, Сесиль и ее муж расположились на стульях. На низком столике стояла большая ваза со спелой черешней и поднос со стаканами, наполненными фруктовым соком. Этьен спросил, не желаем ли мы выпить по чашечке кофе, и все в один голос ответили «да!» Хозяин дома улыбнулся и отправился на кухню варить кофе. За время его отсутствия никто не произнес ни слова. Элен подошла к окну покурить, и я присоединился к ней, но прежде поинтересовался содержимым полок книжных шкафов. Библиотека свидетельствовала о том, что вкусы ее владельца были более индивидуальными, чем в Розье, и во многом схожи с моими собственными. Этьен вернулся в гостиную с кофе: он пользовался кофеваркой экспрессо, готовившей лишь одну чашку за раз, но, несмотря на это обстоятельство, на его подносе загадочным образом стояли, источая восхитительный аромат, девять чашек горячего кофе. Он попросил у Элен сигарету и извиняющимся тоном добавил, что уже давно бросил курить, но сегодня особый день, и ему как-то не по себе. Не сговариваясь, мы оставили для него кресло напротив канапе. Оно стояло прямо посередине и чем-то напоминало место для свидетелей в суде. Но Этьен предпочел сесть прямо на пол, точнее, он присел на согнутую правую ногу, а левую вытянул перед собой — такая поза казалась чудовищно неудобной, тем не менее, в таком положении он провел почти два часа. Мы смотрели на него. Он смотрел на нас, переводя взгляд с одного на другого, и я не мог понять, нервничает он или же совершенно спокоен. Наконец, Этьен коротким смешком прервал неловкую паузу и сказал: «Странная ситуация, вам не кажется? Идея собратьвас вдруг показалась мне не только абсурдной, но и самонадеянной. Можно подумать, будто я могу сообщить вам нечто новое о вашей дочери, сестре… Вы знаете, я очень боюсь. Я боюсь вас разочаровать, а еще я боюсь показаться вам смешным. Мой страх не заслуживает вашего внимания, просто в данный момент я испытываю именно это чувство. Я ничего не подготовил к этой встрече. Вчера я попытался сочинить в уме какую-то речь, наметив ряд тем, которые хотел затронуть, но у меня ничего не получилось, и я оставил эту затею. Да и вообще, я не очень силен в таких вещах. Поэтому буду говорить то, что придет в голову. — Он помолчал, потом продолжил: — Есть кое-что, о чем вы, как мне кажется, даже не догадываетесь, и потому я хочу, чтобы вы поняли: Жюльетт была великим судьей. Вы, конечно, знаете, что она любила свою работу и делала ее безупречно. Возможно, вы думаете: да, она была отличным судьей, но эти слова не отражают истинного положения дел. Мы с ней проработали в суде Вьена целых пять лет, и мы были великими судьями».