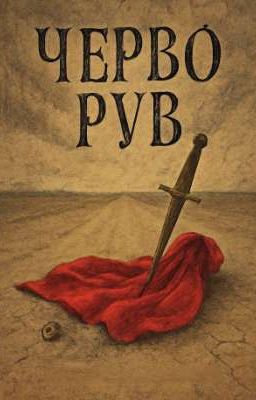2 глава.
Рассвет не принес света. Он принес серость, разведенную до консистенции холодной манной каши, и запах - не свежести, а влажной золы, конского навоза и нестиранных тел, вспотевших за ночь под грубыми тканями. Табор проснулся с ворчливым стоном, как старый пес, которого пинают с лежанки. Задребезжали ведра у реки. Залаяла тощая, ребристая собака. Где-то женщина завела монотонную, носовую песню - не для радости, а чтобы отмерить бесконечность дня. "*Дром, дром, пе дром..." (Дорога, дорога, на дороге...) - печально качался напев над грязью.
Наташа лежала неподвижно. Не спала. Глаза, серые и сухие, словно выжженные палыщем, смотрели в потрепанный холст тележного верха, где паук, маленький, черный архитектор отчаяния, плел свою хлипкую Вселенную. Тело ее помнило все. Помнило грубость рук, впившихся, как клещи. Помнило тяжесть, раздавившую ребра. Помнило боль - острую, унизительную, сменившуюся тупой ломотой в костях таза. Помнило запах его - медный, потный, чуждый. Но сильнее боли была тишина. Глубокая, звенящая тишина внутри, как в опустевшем колодце после засухи. Страх? Да. Но он отступил, уступив место ледяному, иссушающему пониманию. Она была вещью. Как ведро у колодца. Как украденный жеребец. "*Манро". Его. "*Аквэла". Так надо. Эта простота была страшнее любой угрозы.
Шум шагов. Тяжелых, уверенных. Тень упала на нее. Радомир. Он стоял, заслоняя убогий свет, входящий сбоку телеги. От него пахло ночной дорогой, конским потом и свежей медной стружкой. Он молча протянул ей тот же черепок. Внутри - густая, холодная каша из кукурузной муки, серая, как таборная грязь. "*Ха!" (Ешь!). Приказ. Без интонации. Как собаке.
Она медленно села. Каждое движение отзывалось болью. Взяла черепок. Руки не дрожали. Она смотрела не на кашу, а на его руки. Широкие ладони, покрытые сетью старых шрамов и свежих царапин, пальцы - сильные, с обкусанными ногтями, в порезах и темных пятнах окиси. Руки кузнеца. Вора. Насильника. Она поднесла черепок к губам. Каша была безвкусной, комковатой, пахла дымом. Она ела. Медленно. Механически. Глотая не пищу, а новую реальность.
"*Тухэрыс?" - спросил он резко. (Поняла?) Его взгляд скользнул по ее разорванной кофте, по ссадине на ключице, еще лиловой. Не раскаяние. Проверка.
Она подняла глаза. Встретила его угольные зрачки. Глубина их была пугающей - не злоба, не страсть, а пустота первозданного права сильного. Она кивнула. Один раз. Коротко. "*Хох" (Да). Голос - хриплый шепот, как шелест сухого листа под сапогом.
Уголок его рта дрогнул. Не улыбка. Гримаса удовлетворения хозяина, увидевшего покорность скотины. "*Вава дэс!" (Иди сюда!). Он повернулся и пошел, не оглядываясь, уверенный, что она последует.
Она последовала. Ноги подкашивались, но она шла. Грязь чавкала под ее стоптанными башмаками, липкая, холодная, живая. На нее смотрели. Женщины, *ромалки, с лицами, вылепленными нуждой и побоями, смотрели с немым, тупым презрением. "*Гаджи! Мархи!" - шипели они, плюя себе под ноги, как будто само ее присутствие оскверняло воздух. Дети, с животами, раздутыми от голода и глистов, с коростами на головах, тыкали в нее грязными пальцами, кривлялись. Один камешек, брошенный чьей-то ручонкой, шлепнулся ей в грудь. Она даже не вздрогнула. Прошла сквозь этот строй ненависти, как сквозь дождь. Внутри была та же мертвая тишина. "*Аквэла".
Радомир остановился у своего "мастерства" - грубо сколоченного навеса, под которым дымился переносной горн, стояли мехи, наковальня и груды медного лома - кранов, труб, подсвечников, украденной утвари. Воздух здесь пах по-иному: едкой гарью, раскаленным металлом, потом и влажной кожей мехов. Он швырнул ей грубый кожаный фартук, заляпанный окисью и сажей. "*Лас пе ман!" (Помогай мне!). Не просьба. Констатация факта.
Он раздул меха. Угли в горне вспыхнули зловещим багровым глазом. Он схватил клещами обломок медной трубы, сунул в жерло. Огонь жадно лизнул металл. Радомир стоял, широко расставив ноги, профилем к ней. Линия челюсти - жесткая, как контур скалы. Мускулы на руках играли под темной кожей. Он был здесь в своей стихии. Хозяин огня и металла.
"*Дай ле!" - бросил он, когда медь налилась смутным, дьявольским алым светом. (Дай его!).
Она поняла. Подхватила тяжелый молот, лежавший у наковальни. Рукоять была гладкой, пропитанной потом поколений. Неожиданно тяжелой. Она поднесла его, как подношение.
Он выхватил раскаленную медь клещами. Алая, почти белая в сердцевине, она извивалась, как пойманная змея, брызгая снопами искр. *Тшшш!* Он швырнул ее на наковальню. Звон, как удар по колоколу смерти. "*Кхай мэ!" (Бей меня!) - крикнул он, и в его глазах зажегся тот же дикий огонь, что горел в горне. Не просьба. Приказ плоти, слившейся с металлом.
Она занесла молот. Весь ее хрупкий вес, вся накопленная за ночь ярость, вся мертвая тишина сконцентрировались в этом движении. Она ударила. Со всей силой. По раскаленной меди.
*Дзынь!* Удар отозвался оглушительным звоном в ее костях, в зубах. Искры, как рассерженные осы, обожгли ее лицо, руки. Медь согнулась, подчиняясь, издав стон.
"*Хох! Аквэла!" - рыкнул Радомир, переворачивая заготовку клещами. (Да! Так!). В его голосе - азарт, почти удовольствие. "*Пхэх, хэв! Пхэх!" (Сильнее, девчонка! Сильнее!).
Она била. Снова и снова. Слепо. Ожесточенно. Каждый удар молота по пылающей плоти металла был ударом по ее собственной боли, по унижению, по немой ярости. Пот стекал по ее вискам, смешиваясь с сажей. Горячие искры прожигали дыры в ветхой одежде, оставляли мелкие, жгучие точки на коже. Она не чувствовала. Она била. Медь подчинялась, меняла форму под ее ударами, как глина, но оставалась раскаленной, опасной, чужой. Как он.
Радомир работал клещами и легким ручником, направляя, поправляя. Его движения были точными, выверенными, полными первобытной грации кузнеца-демиурга. Он видел форму в бесформенном ломе. Он творил - котел, чашу, украшение? Неважно. Важен процесс. Власть над стихией. Власть над ней, бьющей по его команде. Он смотрел на ее напряженное лицо, на сжатые губы, на бешеный блеск в серых глазах, и это его возбуждало. Эта ярость, направленная в русло его воли. "*Манро!" - мысленно подтвердил он. Его вещь. Его орудие.
Вдруг, переворачивая заготовку, он не удержал ее клещами. Раскаленный кусок меди выскользнул, упал на землю у ее ног, рассыпав веер искр. Она инстинктивно отпрыгнула.
"*Дура! Шукари мурри!" (Дура! Слепая дрянь!) - заорал он, внезапно ослепленный яростью. Не за металл. За ее движение. За испуг. За то, что она посмела отпрянуть от того, что он держал. Его рука, тяжелая, как молот, взлетела и опустилась на ее щеку.
Удар. Гулкий. Звериный. Она не вскрикнула. Отлетела в сторону, ударившись плечом о стойку навеса. Упала на колени в грязь. Кровь теплой струйкой потекла из разбитой губы, соленая, медная на вкус. Как вчера. Она подняла руку, вытерла ее тыльной стороной ладони. Оставила алый мазок на грязной коже. Смотрела на него снизу вверх. Не со страхом. С холодным, животным наблюдением. Как зверь в клетке смотрит на укротителя, вычисляя слабину.
Этот взгляд обезоружил его ярость. Остановил его, когда он сделал шаг вперед, чтобы ударить снова. Он замер. Дышал тяжело, ноздри раздувались. В его глазах мелькнуло что-то... недоумение? Крайняя степень обладания всегда граничит с потерей. Он владел ее телом, но этот взгляд из грязи был вне его власти. "*Чеха?" - мог бы спросить он сам, но не смог. "*Аквэла" - мысленно ответил, но уже без прежней уверенности. "*Пхабэл!" (Вставай!) - рявкнул он, отворачиваясь к горну, хватая клещами новый кусок лома. - "*Лас!" (Работай!).
Она поднялась. Медленно. Выпрямилась. Подошла. Снова взяла молот. Губа пульсировала болью. Кровь капала на грязный фартук, впитываясь, как в промокашку. Она занесла молот. Багровый отблеск раскаленной меди лег на ее лицо, на безучастные серые глаза. Она била. Точнее. Холоднее. Каждый удар - не просто подчинение, а "запоминание". Запоминание силы его руки. Запаха его ярости. Звука удара по щеке. Она ковала не медь. Она ковала свою ненависть. Холодную. Острую. Готовую.
Радомир чувствовал это. Сквозь звон металла, сквозь жар горна. Как чувствуют сдвиг плиты под ногами. Он бросал на нее косые взгляды. Ее молчание было громче любого крика. Ее покорность - глубже любого бунта. Это было... ново. Неудобно. Как камешек в сапоге. Он сильнее рванул мехи. Пламя в горне взвилось выше, осветив нищету табора, лохмотья, пустые глаза стариков, сидящих у телег и наблюдающих за ними с немым, вековым равнодушием. Старая Мария, его бабка, сидела на обрубке дерева неподалеку. Она не плевала. Не шипела. Смотрела. Ее старые, мутные, как вода в лесной луже, глаза видели не девку в грязи и крови, а что-то иное. Видели тень на внуке. Видели алый платок, уже прибитый грязью к дороге в будущем. "*Бахт? Дукх?" (Счастье? Боль?) - прошептали ее беззубые губы беззвучно. И добавили, словно плюнув в огонь: "*Гаджискри чирклипа - тэ зорали, на тэ хэвэли, Радо..." (Гаджийское сердце - чтобы разбить, не чтобы ласкать, Радо...).
Наташа услышала шепот. Или почувствовала? Она не обернулась. Занесла молот снова. Раскаленная медь под ее ударом издала протяжный, жалобный стон, будто оплакивая саму себя. И будущее.