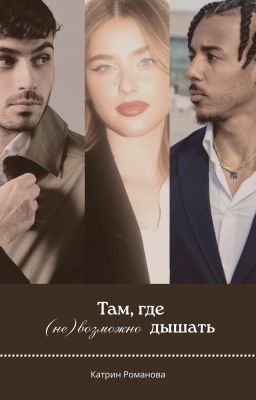𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙝𝙞𝙡𝙙𝙧𝙚𝙣
Пожалуй, я и не ожидала, что после всех этих сложных, рвущих изнутри событий, день может начаться так хорошо, с детского смеха и запаха сладкой ваты. В саду у виллы Левандовских было многолюдно — детей больше, чем взрослых, и отовсюду доносились визги, хлопки воздушных шаров и звонкие крики «поймай меня!». Огромный надувной замок возвышался над всей площадкой, а рядом стояли столики с мини-пиццей, сэндвичами и крошечными морожеными в виде корон.
Я пришла вместе с Жулем и мы даже выглядели нормально вместе. Идеально, если смотреть со стороны: он — в пастельно-синей рубашке и льняных брюках, я — в лёгком молочном платье и с распущенными медовыми волосами. Мы даже улыбались в ответ на приветствия, но между нашими пальцами царила пугающая пустота. Мы не держались за руки. Не обнимались. Мы были вместе, но не рядом.
Лаура же была самой настоящей принцессой этого солнечного и такого сказочного дня. Невероятно сияющая, в розовом платье с оборками и с диадемой, которую, по слухам, ей подарил сам Рафинья. Она, завидев меня, радостно завизжала и бросилась навстречу.
— Тётя-доктор! Ты пришла! — закричала она, вцепившись в мою талию с такой силой, будто я — её спасение. Отрицать, что это было до невозможности мило, — всё равно что идти против самой природы добра. Я искренне смеюсь и кружу её на руках, забывая на пару минут, что моё сердце было разбито всего вчера.
— Конечно пришла. Ты же обещала, что будешь принцессой, а мне просто необходимо было это увидеть!
Она вспыхивает, как самый прекрасный рассвет, и сразу же начинает тянуть меня к столику с куклами:
— Смотри! Это мой новый медведь — Рауль и он заболел! Помоги ему, пожалуйста!
Пока я с умным лицом «осматриваю» плюшевого мишку и даю ему воображаемое лекарство, я отчётливо ощущаю на себе чей-то взгляд. Он слишком тёплый и нежный, чтобы не узнать. Поднимаю глаза — и, конечно, вижу Педри. Он стоит чуть в стороне, разговаривает с Робертом, но смотрит на меня. Не нагло, не пристально — просто по-настоящему, как будто среди всех этих людей, шаров, сахарной ваты и смеха — он видит только меня.
На нём светло-серая худи, небрежно накинутая поверх футболки, и свободные голубые джинсы. Образ дополняют классические кеды adidas — до боли простой, родной стиль, и всё это каким-то чудом делает его ещё более красивым. Я замечаю, как смягчаются черты его лица, когда он слушает, как смеётся дочь Роберта рядом со мной, и невольно замираю. Он выглядит до невозможности привлекательно. Не как футболист с афиши, а как тот, кого можно любить — по-настоящему, кого я уже итак любила, вопреки всему.
Позже он подходит. Не сразу. Сначала просто появляется рядом — как всегда, ненавязчиво, с той самой лёгкой улыбкой, от которой внутри всё невольно сжимается.
— Пациент спасён? — кивает в сторону медведя, которого я аккуратно уложила на розовую подушку под зонтиком, как будто он и правда проходит серьёзную реабилитацию.
— В тяжёлом состоянии, но держится, — шепчу я, позволяя себе короткую улыбку.
Он смеётся чуть громче, чем нужно, но тут же сникает. Мы стоим молча, Лаура сбегает куда-то со своей старшей сестрой — Кларой. Звук детского смеха, лёгкие нотки поп-музыки из динамиков, запах сладкой ваты и клубничного сиропа. Всё кажется чужим и слишком счастливым — как в фильме, в котором ты играешь лишь эпизодическую роль.
— Фернандо женится, — вдруг тихо говорит он, и я удивлённо поворачиваю к нему голову. — Мой брат. Старший. Совсем скоро и это уже... какой-то тренд в моём окружении. Один за другим.
Я молчу. Он продолжает, чуть склонив голову:
— Знаешь, иногда мне становится страшно. Будто все разбегаются в пары, строят что-то важное, взрослеют, а я... застрял и по итогу, просто останусь один.
Он говорит это так просто. Почти буднично, но внутри меня что-то надрывается. Будто по моей коже провели скальпелем. Он боится остаться один, а я... я всегда верила, что не одинок он именно потому, что есть я. Что где-то глубоко внутри у него тоже есть это чувство — крошечное, тёплое, нежное. Моя глупая, наивная надежда с грохотом рушится, пока я не выдерживаю и, чуть сжав губы, говорю:
— Кому угодно стоит переживать об этом... но не тебе.
Он смотрит на меня с лёгким непониманием, а я тихо выдыхаю, почти не сдерживаясь:
— Ты добрый, талантливый, красивый. Умный. Настоящий. Если кто и не останется один — так это ты, Педри. Ты — тот, кого невозможно не полюбить.
Он замирает на один короткий миг, будто совсем не ожидал от меня таких слов. В его глазах — то ли удивление, то ли осторожная боль, но он ничего не отвечает. Только мягко касается моего локтя — на секунду, едва ощутимо, и от этого прикосновения по телу прокатывается волна. Я отступаю на шаг назад. Просто чтобы не ранить себя ещё больше.
— Прости, — добавляю быстро, едва слышно. — Не знаю, почему сказала это.
— Не извиняйся, — говорит он тихо. — Просто... спасибо.
Его голос дрожит, как будто под тяжестью чего-то невыносимого. Он уходит так же внезапно, как появился, оставляя меня стоять под солнечными шарами, с этой чёртовой дырой внутри и горьким послевкусием слов, которых не должно было быть. Но всё равно — они были правдой. Моей. Единственной и настоящей.
Спустя неделю после дня рождения Лауры наш дом снова наполнился тишиной — той самой тяжёлой, от которой не спасают ни свечи, ни плейлист на фоне, ни даже запах базилика, что я машинально посыпала на его любимую пасту. Я старалась. Правда старалась. Проводила с ним больше времени, раньше возвращаясь с работы. Уделяла куда больше внимания на тренировках, искренне пытаясь улыбнуться и целовала, как бы сильно не желая оттолкнуть. Всячески игнорировала Педри и заблокировала его везде, где только можно, в который раз пытаясь отрезать его откуда-то из глубины души. Я искренне хотела, чтобы этот вечер, наша годовщина, была другой. Чтобы мы хотя бы немного вернулись, но всё казалось фальшивым — как костюм на сцене, надетый через силу.
Я услышала, как хлопнула входная дверь. Он пришёл. Гулкий, раздражённый шаг, не снимая куртки и даже не поздоровавшись. Жуль только встал в дверях кухни и долго смотрел на меня. Молчал. Я чувствовала этот взгляд спиной, как ледяную каплю между лопаток и медленно начинала паниковать.
— Ты даже не спросишь, как прошёл мой день, — бросил он, голос — сухой, с оттенком усталости.
Я обернулась, изо всех сил стараясь счастливо улыбнуться:
— Я приготовила твою пасту. Ту, с грибами и лимоном. Ты её любишь.
— Ты серьёзно? — он издевательски усмехнулся, почти зло. — Думаешь, тарелка еды заменит разговор? Или хотя бы присутствие? Ты вообще со мной, Ана? Или всё ещё витаешь где-то в облаках — там, где тебя видят по-настоящему?
Я застыла. Не от слов, а от того, как он их произнёс. Без эмоций, с мёртвой пустотой. Так говорят, когда перестают надеяться.
— Гави вчера спросил, всё ли у нас нормально, — продолжил он, шагнув ближе. — Потом были Френки, Рафа и Мартинез. «Вы в порядке?» — вот что они спрашивают, потому что даже они видят, что мы уже не «мы». Я стараюсь, Ана. Я правда стараюсь, а ты... ты будто не с нами, не со мной. Тебе будто абсолютно плевать!
— Жуль... — тихо выдохнула я, — я не...
— Ты не что? Не любишь меня больше или уже даже не пытаешься сделать вид?
Он подходит к накрытому праздничному столу, резко хватает края светло-сиреневой скатерти и одним движением смахивает всё на пол. Тарелки, вилки, бокалы — всё с грохотом разбивается, пока паста растекается по светло-бежевой плитке, словно в замедленной съёмке. Я непроизвольно отшатываюсь назад, вжимаясь в поверхность столешницы, совсем не ожидая от него такого.
— Чёрт, — процедил он, тяжело дыша. — Посмотри, до чего мы дошли. Я пугаю тебя, да?
Я кивнула. Неуверенно. Едва заметно.
— Мне страшно, Жуль. Не из-за разбитых тарелок, а из-за того, как ты на меня смотришь. Будто ненавидишь.
Он сжал кулаки, но голос стал тише. Глуше, будто внутри всё с грохотом ломалось.
— Я не ненавижу тебя, Ана. Я ненавижу, что ты уже не моя. Что я остался в пустом доме с человеком, которого не могу дотронуться. Который улыбается только, когда смотрит на... друга.
Он сделал ударение на этом слове. Я поняла, о ком он и сердце инстинктивно дрогнуло.
— Педри, — выпалило он, с горькой усмешкой. — Он ведь всегда рядом, да? Понимает. Не ставит перед выбором. Поддерживает и не швыряет посуду. Удобный такой. Прекрасный.
— Не говори так, — сжала губы я. — Не смей.
— Почему это, bébé? Больно слышать правду? Или просто страшно признаться, что тебе с ним... легче? Что ты возвращаешься к нему мыслями, даже когда ложишься в нашу кровать?
Я ничего не отвечаю, потому что знаю, что он прав. Потому что я действительно возвращалась. Взглядом. Сердцем. Сном. Потому что все эти последние месяца рядом с Жюлем — я выживала, а рядом с Педри... могла спокойно дышать.
Жуль выпрямляется. Его глаза полны уже не злости, а обычного человеческого отчаяния.
— Я так больше не могу, Ана. Не хочу быть тем, кого ты терпишь.
Он медленно направился к выходу, даже не посмотрев на меня. Только останавливается у дверного косяка и бросает напоследок:
— Когда поймёшь, что потеряла — не пиши. Я не Педри. Я не вернусь.
Он ушёл. Хлопнула дверь, и я осталась совершенно одна. Среди осколков, винных капель и разбитых обещаний. И, несмотря на дрожь в руках и горечь в груди... я почувствовала, как впервые за долгое время воздух стал чище. Потому что больше не надо притворяться. Потому что теперь всё... по-настоящему.
Я стою так ещё несколько минут, словно под водой, не в силах позволить себе даже вдохнуть. Всё вокруг замирает. Только кухонные часы тихо тикают где-то за спиной, отмечая то, как медленно рушится внутри меня всё, что мы когда-то строили.
Передо мной — пустая кухня. На полу разбитые тарелки, следы вина, капли соуса, зелень, впитавшая в себя весь абсурд этого вечера. И я... стою среди этого хаоса, как немой свидетель собственной неудачи. Он ушёл. Не просто вышел — ушёл и я совсем не знала, что делать.
Медленно опускаюсь на колени и начинаю собирать осколки. Один за другим, как память. Вот край от тарелки, с которой он ел в день нашей первой годовщины. Вот вилка, с которой он в шутку кормил меня клубникой в молочном шоколаде прошлым летом. Всё это было. Было нашим, а теперь — просто хрупкие, острые обломки прошлого, ранящие пальцы.
Слёзы капают в тишину. Они не громкие. Они нестерпимо тихие — такие, от которых горит горло и дрожат губы. Я мою пол. Складываю куски посуды в мешок. Открываю окна, впуская прохладный воздух. Всё это не потому что хочется, а потому что иначе я сойду с ума.
Час. Два. Четыре. Уже почти рассвет, когда я сижу в холле, завернувшись в вязанный плед, и пью остывший мятный чай, который никогда не любила, ведь он никогда не успокаивал. Одно лишь притворство. В один момент я слышу, как легонько скрипит входная дверь. Замок поворачивается с трудом и входит Жуль.
Он пьяный. Сильно. Шаткая походка, прищуренные глаза, запах крепкого алкоголя, пропитавший воротник. Он закрывает дверь, облокачивается на стену и смотрит на меня. Долго. Молча.
— Ты всё убрала... — хрипло говорит. — Как будто ничего и не случилось.
Я молчу и просто смотрю на него. Его щёки покрасневшие, волосы растрёпаны, в голосе — то ли смех, то ли боль.
— Помнишь, как мы с тобой в первый раз остались дома на Рождество? — он вдруг говорит. — Все тогда уехали на отдых на Мадейру, а мы остались. Ты сварила суп, мы ели его с хлебом, смотрели дурацкие рождественские фильмы. А потом ты уснула на мне прямо на диване...
Он смеётся, но это смех с надрывом.
— Тогда я подумал, что могу вот так — с тобой. Всю жизнь, даже если весь мир уйдёт. Главное — ты останешься. А теперь... теперь ты просто есть, но уже не со мной.
Я чувствую, как сердце сжимается. Он скидывает куртку, тяжело опускается на пол напротив. Его взгляд — стеклянный, но в нём столько тепла, что от этого становится только больнее.
— Я не святой, Ана. Я ошибался. Много. Я закрывался, я был жёстким, упрямым, но ты ведь знала, кто я. Знала и осталась. А теперь ты... ты не здесь, даже когда рядом. Ты как будто умерла для нас.
Я уже не сдерживаюсь. Горькие слёзы текут по щекам, капают на плед, на кружку в моих руках.
— Жуль... прости. Я... я не хотела...
Он лишь качает головой. Медленно и как-то грустно.
— Нет, не надо. Не проси прощения. Ты просто больше не любишь и это самое страшное. Потому что я — всё ещё да.
Он опускает голову на колени и сидит так, беззащитный, пьяный, настоящий. Я смотрю на него сквозь слёзы, и внутри всё сжимается в ком. Я сделала это. Я. Своей нерешительностью, своей тишиной, своими мыслями, вечно бегущими к другому.
Я подтягиваюсь к нему ближе, осторожно касаюсь его волос, его плеча, а потом просто обнимаю — как обнимают человека, которого уже не спасти, но ты всё равно не можешь отпустить. И мы сидим так, среди ночи, разбитые, сломанные, но всё ещё вдвоём. Только уже не пара, а две тени того, чем мы могли бы быть.
Проходит несколько долгих мгновений, а после он делает резкий и глубокий вдох. Его руки медленно тянутся ко мне, обвивают мою талию, и он прижимает меня к себе крепче. Слишком крепко, будто боится, что, если ослабит хватку — я исчезну навсегда. Его нос зарывается в мои волосы, и я слышу, как он вдыхает аромат духов, тех самых, что он сам мне когда-то подарил на двадцать второй день рождения.
— Я знаю, — хрипло, почти беззвучно шепчет он. — Я знаю, что ты влюбилась в него.
Я замираю. Молчу. Никаких оправданий, никаких «нет, это не так» — потому что это так. Потому что он прав, и я не буду врать, никогда и не хотела.
— Я даже видел, — продолжает он, его голос ломкий, надтреснутый, — Примерно когда. По мелочам. Как ты смотришь. Как улыбаешься, когда тебе приходит сообщение. Как ты оживаешь, когда он рядом. Я всё видел, но... игнорировал. Так было проще, потому что ты же моя. Ты всегда была моя. Моя Ана. Мой человек. Моя девушка.
Он вжимается в меня ещё сильнее. Я чувствую, как дрожит его грудь, как не хватает воздуха, будто он задыхается не от слёз, а от слишком долгого молчания.
— А потом всё пошло ко дну. Медленно. Больно. Мы цеплялись за иллюзии, за привычку, за дом, который больше не дом, но я не мог отпустить. Я не мог разрешить себе потерять тебя. Ты же — всё, что у меня было. Всё настоящее.
Я закрываю глаза. Губы дрожат, а он продолжает — с надрывом, почти изнутри:
— Я должен быть правильным, должен поступить благородно. Сказать, что понимаю. Что ты заслуживаешь счастья. Что я желаю вам любви, новой, свежей, светлой. Что я тебя отпускаю. Вот так... красиво. Но знаешь, что? Я не могу.
Он отстраняется ровно настолько, чтобы посмотреть мне в глаза. Его взгляд — разбитое море, без дна, без берегов.
— Я не выдержу видеть вас вместе. Не смогу смотреть, как ты держишь его за руку. Как ты целуешь его, так, как раньше — меня. Как смеёшься рядом с ним тем смехом, который я знал наизусть. Я просто... не выживу.
Он опускает голову мне на грудь. Плечи сотрясаются от беззвучных рыданий.
— Прости. За то, что не стал тем, кто мог удержать тебя и за то, что не умею тебя отпустить.
А я... я просто держу его. Без слов. Без обещаний, потому что сейчас — не время. Сейчас мы оба в руинах, но всё, что осталось — это эти обломки и чужая, слишком сильная любовь, которая почему-то до сих пор здесь. Между нами.
Утро приходит, как предатель — медленно, лениво, слишком светло для разбитых сердец. Жуль уснул прямо на полу, прижавшись ко мне. Он казался ребёнком, слишком усталым, потерянным, обессиленным после затянувшегося кошмара. Я осторожно выскользнула из его объятий и встала, босиком проходя по холодному полу в сторону кухни.
Готовлю кофе. Один. На двоих не хочется, да и смысла нет. Всё внутри молчит — не потому что спокойно, а потому что больше не за что бороться. Мы оба сдались.
Он просыпается где-то через полчаса. Садится, облокачиваясь спиной о стену. Трёт глаза и молчит. Мы оба молчим.
Я подхожу к нему ближе, присаживаюсь на колени и ставлю перед ним стакан прохладной воды. Он неуверенно берёт его и пьёт, тут же, опустив глаза в пол. Моё сердце болезненно сжимается, когда его карие глаза находят мои и он еле слышно шепчет:
— Ты уйдёшь от меня?
Я медленно киваю. Без слёз и истерик, потому что всё, что можно было выплакать, уже вышло ночью. Осталась только тихая ясность.
— Куда? — полностью разбито спрашивает он.
— Не знаю, — отвечаю совершенно честно. — Пока просто... подальше отсюда. Нужно побыть одной. Подумать. Прийти в себя.
Он горько усмехается, но на этот раз без злобы.
— К нему?
Я встречаюсь с ним взглядом.
— Не сразу и не так. Я... я не иду к нему, Жуль. Я иду от нас, понимаешь? Потому что «нас» больше нет.
Он молчит. Только кивает. Медленно. Грустно. Совсем сломано.
— А можно одну просьбу? Последнюю?
— Конечно.
— Не забывай нас. Не вычеркивай. Просто... помни, что я тебя любил. Как умел.
Я изо всех сил сжимаю губы, чтобы не расплакаться.
— Я помню. И буду помнить. Всегда.
Я иду собирать вещи. Не несколько сумок, а всего лишь один, потрёпанный жизнью, чемодан. Всё остальное не имеет значения. Сложнее всего уходит не одежда, а аромат в подушке, книги на полке, парная кружка с дурацкой надписью и мягкость его любимой рубашки. Слёзы начинают бежать по щекам сами собой, ведь всё то, что я так тщательно оберегала и пыталась сохранить, теперь было разбито вдребезги. Я слышу, как он стоит за дверью, как его шаги звучат так близко, но я физически не могу повернуться, не могу взглянуть в его глаза. Это было бы слишком больно. Ещё больнее, чем сейчас.
Я закрываю молнию чемодана, горько понимая, что не оставляю здесь ничего — только воспоминания. Всё остальное — вещи, вещи, которые не смогут вернуть меня к тому времени, когда я могла бы смеяться рядом с ним и не бояться будущего. Вещи, которые навсегда останутся частью сказочной истории, у которой никогда не было счастливого конца.
Поднимаю ручку вверх и в последний раз окидываю спальню взглядом, будто бы прощаясь с родными стенами, в которых уже не было тепла. Заторможено, будто в замедленной съёмке, спускаюсь по знакомой лестнице и замираю на последней ступеньке. Перед дверью стоит он, меланхолично опершись о косяк. Пьяный романтизм давно ушёл, остался только человек. Простой, сломанный, но сильный, чтобы не удерживать.
— Береги себя, Ана, — говорит он, сглатывая этот противный ком в горле.
Я лишь отчаянно киваю.
— Ты тоже, Жуль.
Пару секунд и дверь за мной закрывается. На этот раз — не со злостью, а с последним, лёгким эхом любви, которая не выжила.