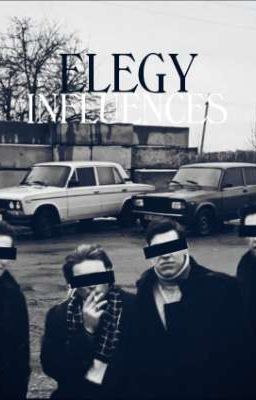финал.
Месяц.
Тридцать дней, растянувшихся в одно долгое, беззвучное ожидание. Дача, когда-то бывшая убежищем, превратилась в изолятор. Снег завалил все подходы, отрезав её от мира белым, молчаливым покрывалом.
Анна жила в ритме, заданном её собственными руками. Утро — чай и попытка читать. День — бессмысленные прогулки по заснеженному участку. Вечер — скрипка.
Она снова играла. Сначала пальцы не слушались, смычок дрожал, извлекая из струн лишь визгливую какофонию, похожую на её внутреннее состояние. Но потом мышечная память взяла своё. Пальцы сами находили позиции, смычок скользил ровнее. Она играла Баха. Сложные, многослойные партиты, требующие абсолютной концентрации. В них не было места мыслям. Только ноты. Только техника. Только побег.
Раз в неделю приезжал Цыган. Привозил продукты, деньги, молча забирал пустые тарелки. Он был единственной ниточкой во внешний мир.
— Как он? — спрашивала Анна в очередной его приезд, загораживая ему дорогу в прихожей.
Цыган, не поднимая на неё глаз, переставлял сумки с провизией.
—Жив. Поправляется.
— Где он? Почему не приезжает? Почему не звонит?
На эти вопросы Цыган не отвечал.Он лишь молча разгружал сумки, его смуглое лицо было непроницаемой маской. Однажды, не выдержав, она схватила его за рукав.
— Скажи ему… скажи, что я спрашиваю.
Цыган медленно поднял на неё глаза. В его взгляде не было ни жалости, ни осуждения. Лишь усталое понимание.
—Он знает, — коротко бросил он и, высвободив рукав, вышел на морозный воздух.
Он знает. Эти слова звенели в тишине дачи громче любого оркестра. Он знал и не приезжал. Не звонил. Не писал.
Сомнения грызли её изнутри. Может, он видел её тогда, в цеху? Видел её с ножом, видел её глаза, полные ненависти? Видел, во что она превратилась? И его отвернуло? Ему стала противна эта озверевшая, окровавленная тварь, в которую она превратилась ради него? Ради мести?
Она ловила себя на том, что подолгу смотрит в зеркало, пытаясь найти в своём отражении ту самую девушку с скрипкой. Но из зеркала на неё смотрела незнакомка с слишком взрослыми и слишком пустыми глазами.
Как-то раз, разбирая продукты, она нашла в сумке новую пачку струн и сборник нот Шостаковича. Тяжёлый, трагичный, раздирающий душу Шостакович. Того самого, кого запрещали, чью музыку называли «сумбуром вместо музыки».
Она поняла, кто их положил. Это было его послание. Молчаливое и многословное одновременно. Он не звал её. Не приезжал. Но он напоминал: «Я помню. Я знаю. Иди через это. Как я».
Она стала играть Шостаковича. Сначала неумело, сбиваясь. Потом — всё яростнее и отчаяннее. Она вкладывала в музыку всю свою боль, всю ярость, всю тоску по нему и по себе прежней. Скрипка плакала и кричала, а она стояла поснежной дачи, вся в слезах, и водила смычком, пока пальцы не немели.
Однажды вечером, играя особенно пронзительную часть, она услышала скрип ступенек на крыльце. Музыка оборвалась. Сердце заколотилось в груди. Она замерла, вцепившись в гриф, прислушиваясь.
В дверь постучали. Не троекратным условным сигналом Цыгана. А два раза. Твёрдо. И знакомо.
Она не дыша, подошла к дверии и открыла.
На пороге стоял он.
Не призрак из кошмаров, а плоть и кровь. Высокий, похудевший, в черной кожаной куртке. Лицо бледное, осунувшееся, с ещё более резкими, впавшими скулами. Но глаза... глаза были прежними. Серыми, пронзительными, и теперь в них читалась усталость, но не пустота.
Они молча смотрели друг на друга через порог. Месяц разлуки, крови и тишины висел между ними тяжёлой, невидимой завесой.
Он первый нарушил молчание.
—Можно войти? — его голос был низким, немного хриплым, как будто он давно не говорил.
Анна молча отступила, пропуская его. Он переступил порог, сбросил пальто, повесил на вешалку. Под пальтом — тёмный свитер, на плече — едва заметный бугорок под тканью, где была повязка.
Он оглядел комнату — чистую, аскетичную, со скрипкой на стуле и раскрытыми нотами Шостаковича на пюпитре. Его взгляд задержался на нотах, и уголок его рта дрогнул в намёке на что-то, что могло быть улыбкой.
— Я... — начала Анна, но голос сорвался. Она сглотнула. — Я играла.
— Я слышал, — сказал он тихо. — Издалека. Было... громко.
Он подошёл к скрипке, не прикасаясь, просто смотря на неё.
—Цыган говорил, ты спрашивала.
Она кивнула, не в силах вымолвить слово. В горле стоял ком.
— Я не мог приехать, — он повернулся к ней, его взгляд был прямым и тяжёлым.
— Были дела. Те дела, что остались после того вечера. Их нужно было... убрать. Чтобы к тебе никогда не пришли. Чтобы это никогда не повторилось.
Он сделал паузу, выбирая слова.
—И мне нужно было... прийти в себя.
Он посмотрел на её руки, как будто видел сквозь кожу ту самую кровь.
—Ты сделала то, что должен был сделать я. И заплатила за это свою цену. Я не имел права прийти к тебе, пока не был уверен, что могу оградить тебя от последствий. От себя... прошлого.
Анна понимала. Он не боялся её. Он давал ей время. И очищал пространство вокруг них от той кровавой бойни, чтобы её тень не падала на их общее будутие.
— Я боялась, что ты... что я тебя отпугнула, — выдохнула она, наконец, опуская глаза.
—Нет, — он шагнул к ней, и его пальцы коснулись её подбородка, заставив поднять взгляд.
— Ты меня не отпугнула. Ты... поразила меня. В тот момент, в цеху... я увидел не жертву. Я увидел равную. И это было страшнее и... прекраснее всего, что я знал.
Его пальцы перешли к её щеке, смахнули непрошеную слезу.
—Прости, что заставил ждать.
Она покачала головой, прикрывая глаза, чувствуя, как лёд внутри начинает таять под теплом его прикосновения.
—Я справилась.
—Знаю, — он улыбнулся по-настоящему, и в его глазах появились те самые тёплые искры, которые она помнила.
— Я слышал.
Он обвёл взглядом комнату.
—Собирай вещи. Здесь тебе больше нечего делать.
—Куда? — спросила она, хотя уже знала ответ.
—Домой, — сказал он просто.
— Ко мне. Если хочешь.
Он не говорил «я тебя люблю». Он не просил прощения за месяц молчания. Он предлагал ей то, чего был лишён сам долгие годы — место, которое можно было бы назвать домом. И себя. Таким, какой он есть. Со всеми шрамами, прошлым и той тихой, испепеляющей верностью, которая оказалась сильнее страха и крови.
Анна посмотрела на скрипку, на ноты, на заснеженное окно. А потом — на него. На его руку, всё ещё лежащую на её щеке. На его глаза, в которых она видела своё отражение — уже не потерянная девушка, а женщину, прошедшую через огонь.
— Да, — ответила она так же просто.
— Я хочу.
Она повернулась, взяла скрипку и аккуратно уложила её в футляр. Закрыла крышку. Щёлкнули замки. Это был не конец музыки. Это было начало новой партитуры. И она была готова её играть.
Его машина стояла у калитки, тёмная и немая, как и он сам весь этот месяц. Он взял её чемодан — лёгкий, почти пустой, — и положил на заднее сиденье. Скрипку она держала в руках.
Они ехали молча. Но это была не та гнетущая тишина, что висела на даче. Это было спокойное, уставшее молчание двух людей, которым, наконец, не нужно ничего доказывать друг другу. Он не пытался говорить, она не пыталась расспрашивать. Он вёл машину одной рукой, другая лежала на руле, и она видела бледную полоску шрама на запястье, которого раньше не замечала.
Он привёз её не в квартиру слесаря и не в сгоревшее кафе. Они остановились у невысокого, но солидного сталинского дома в тихом центре города. Он выключил двигатель и повернулся к ней.
— Здесь никто не живёт, кроме меня. И теперь — ты, если захочешь.
Он прожил всю жизнь во «времянках» и убежищах. Эта квартира была его личным, тщательно скрываемым фортом. Местом, куда он не впускал никого.
Лифт поднялся на последний этаж. Он открыл тяжёлую, обитую железом дверь двумя ключами.
Внутри пахло деревом, кожей и… тишиной. Большая квартира с высокими потолками была почти пуста. Паркетный пол блестел, на стенах — следы от когда-то висевших картин. В гостиной стоял только массивный диван, два кресла и огромный советский радиоприёмник. Ни ковров, ни безделушек, ни намёка на чью-то другую жизнь.
— Обстановку продали предыдущие хозяева, — сказал он, запирая дверь.
— Я не стал ничего покупать. Не знал, что сюда ставить.
Он говорил не о мебели. Он говорил о жизни, которой в этих стенах не было.
Анна прошлась по комнатам. Кухня с пустыми шкафами и огромным холодильником. Кабинет с голым письменным столом и пустыми книжными полками. Спальня с широкой кроватью без изголовья и одним тумбочкой.
Это было не жильё. Это было убежище высшего уровня. Но сейчас оно напоминало скорее склеп.
Она вернулась в гостиную. Он стоял у окна, глядя на заснеженные крыши, его профиль был резким и одиноким.
— Здесь нет даже штор, — тихо сказала она.
—Мне нечего скрывать от этого города, — ответил он, не оборачиваясь.
Она подошла к нему, встала рядом.
—А теперь?
Он повернул голову, посмотрел на неё. В его глазах плескалась целая буря — вина, боль, надежда. —Теперь я не знаю. Я не умею… делать так, чтобы здесь кто-то жил.
Она взяла его руку. Его пальцы сжались вокруг её ладони с такой силой, будто он держался за спасительную верёвку.
—Никто не умеет, пока не начнёт, — сказала она.
— Мы можем начать с малого. Купить хотя бы один стул. Чтобы мне было где сидеть, когда ты у окна стоишь.
Он смотрел на неё, и постепенно напряжение в его плечах стало спадать.
—Один стул, — повторил он, и в его голосе прозвучала тень старого, ироничного тона.
— Это можно.
Она улыбнулась впервые за долгий месяц. Это была неуверенная, робкая улыбка, но она была настоящей.
—А потом, может быть, и стол. Чтобы есть не на полу.
—Агрессивный план, — он нахмурился, но глаза смеялись.
— Но одобряю.
Он потянул её к дивану. Они сели рядом, и он не отпускал её руку.
—Всё кончено, Аня. Те люди… та схема… всё. Остались хвосты, бумаги. Но это уже не твоя война.
— А твоя? — спросила она прямо.
Он покачал головой.
—Моя война закончилась в том цеху. Теперь… теперь другая жизнь. Если я, конечно, справлюсь.
Он говорил не о бандитских разборках. Он говорил о жизни в тишине. Без необходимости постоянно быть настороже. Без врагов. С ней.
— Справимся, — сказала она твёрдо. — Вдвоём.
Он обнял её, притянул к себе, и она прижалась щекой к его груди, слушая ровный, наконец-то спокойный стук его сердца. За окном сгущались зимние сумерки, зажигая в окнах города первые огни. Здесь, в этой пустой, безжизненной квартире, было холодно и неуютно. Но это было начало.
Она закрыла глаза и представила, как здесь может быть: книги на полках, шторы на окнах, её скрипка в углу. Его пальто на вешалке. Их общая тишина, которая больше не будет пустотой.
Это была не победа. Это было перемирие. С миром. И с самими собой. И для людей как они это было куда ценнее.
Тишина в квартире была густой, насыщенной невысказанным. Они сидели на диване, и его рука всё ещё сжимала её пальцы, как будто он боялся, что она растворится, исчезнет, как мираж, если он отпустит.
Анна чувствовала его тепло сквозь тонкую ткань свитера, слышала его дыхание. Месяц разлуки, страх, ярость, боль — всё это создало между ними мощное напряжение, которое вот-вот должно было найти выход. Она видела, как он смотрит на её губы, как его взгляд темнеет, теряя привычную холодную расчётливость, наполняясь чем-то простым и животным.
— Вадим... — прошептала она, и её голос прозвучал хрипло.
Он не ответил. Он медленно, давая ей время отстраниться, наклонился и прикоснулся губами к её губам. Это был не тот поцелуй отчаяния или благодарности, что был раньше. Это был поцелуй голода. Голода по жизни, по теплу, по спасению от одиночества, в котором каждый из них прожил так долго.
Он вёл себя не как опытный соблазнитель, а как человек, впервые открывающий для себя что-то запретное и пугающе желанное. Его руки дрожали, когда он скользнул пальцами под край её свитера, коснувшись кожи на талии. Она вздрогнула от прикосновения и его прохлады, но не отстранилась. Наоборот, она сама потянулась к нему, запустила пальцы в его короткие, жёсткие волосы, притягивая его ближе.
Он издал тихий, сдавленный звук, похожий на стон, и углубил поцелуй. Его язык коснулся её губ, и она разрешила ему войти. Мир сузился до вкуса его кофе, до запаха его кожи — кожи мужчины, который пах не опасностью, а просто собой.
Он медленно, словно боясь спугнуть, повёл её назад, на диван. Она легла, а он оказался над ней, опираясь на локти, чтобы не давить на неё своим весом. Его глаза в полумраке были тёмными безднами.
— Ты уверена? — его голос был низким, хриплым от страсти.
— Я могу напугать тебя.
Она в ответ провела рукой по его щеке, по шраму, по напряжённой челюсти.
—Ты уже напугал меня. Больше нечем.
Она сама потянула свой свитер через голову и отбросила его. Холодный воздух квартиры коснулся кожи, заставив её покрыться мурашками. Он замер, смотря на неё, на её хрупкие плечи, на изгиб шеи, на грудь, приподнимающуюся под тонкой тканью бюстгальтера. В его взгляде был не только голод, но и что-то похожее на благоговение.
— Боже, ты очень красивая, — выдохнул он, и это прозвучало так искренне, так непохоже на него, что у неё ёкнуло внутри.
Он наклонился и принялся целовать её шею, ключицы, плечо. Его губы были горячими, а язык — влажным и настойчивым. Он расстегнул её бюстгальтер одним ловким движением, и его ладонь, шершавая и тёплая, накрыла её грудь. Она ахнула, выгнулась, впиваясь пальцами в его спину.
Он был осторожен, но не нежен. В его прикосновениях чувствовалась та же сила, та же целеустремлённость, что и в нём самом. Он не ласкал — он познавал. Исследовал каждую клеточку её тела, как будто пытаясь запечатлеть её в своей памяти навсегда.
Когда он вошёл в нее, это было не больно. Это было... неизбежно. Как будто всё, что было между ними до этого — погони, выстрелы, кровь, музыка — вело именно к этому моменту, к этому слиянию в холодной, полупустой квартире, под пристальным взглядом зимнего города в окне.
Он двигался медленно, сначала, сдерживая себя, но потом её тихие стоны, её ногти, впивающиеся ему в плечи, сломали его контроль. Его движения стали глубже, жёстче, отчаяннее. Он говорил ей на ухо хриплые, обрывочные слова, которых сам, вероятно, не понимал — «ты моя», «я не отпущу».
Она не просила его быть нежным. Ей был нужен именно этот яростный, животный натиск, который смывал память о прошлом месяце, о крови на руках, о страхе. Он заполнял её всего, вытесняя всё плохое, оставляя только здесь и сейчас, только его тело, его запах, его голос.
Когда она кончила, это было тихо — сдавленный cry, судорога, прокатившаяся по всему телу, и слёзы, выступившие на глазах. Он, почувствовав это, издал низкий, победный рык и позволил себе потерять контроль, зарыться лицом в её шею и найти своё.
Они лежали потом, сплетённые, тяжёлые и мокрые от пота, дыша в унисон. Его рука лежала на её животе, его дыхание щекотало её ухо. За окном окончательно стемнело, и в комнату лился только синеватый свет уличных фонарей.
Он первый нарушил тишину.
—Всё в порядке? — его голос снова был глухим, но теперь от усталости и насыщения.
Она кивнула, прижимаясь к нему сильнее.
—Всё в порядке.
Он повернулся на бок, чтобы посмотреть на неё, провёл рукой по её мокрым от слёз вискам.
—Я не хотел.
—Я знаю, — она перебила его.
— Именно так и должно было быть.
Он обнял её, притянул к себе, и они лежали, слушая, как бьются их сердца, постепенно успокаиваясь. В этой пустой, безжизненной квартире появилась первая частичка дома — не в виде стула или шторы, а в виде их общего тепла, их общего дыхания на холодном кожаном диване.
Он не говорил о любви. Он просто держал её, как держатся за самое ценное, что есть в жизни. А она понимала, что для человека как он это было куда красноречивее любых слов.
Тишина после близости была тёплой и густой, как мёд. Их тела, ещё влажные и расслабленные, были сплетены на холодной коже дивана. Анна прижалась щекой к его груди, слушая, как его сердцебиение постепенно возвращается к норме.
— Может, навсегда в Абхазию уедем? — её голос прозвучал тихо, почти шёпотом, нарушая тишину. Она не смотрела на него, а гладила пальцами старый шрам на его ребре.
— Там красиво. И тихо. И море. И мы сможем начать всё заново.
Слова повисли в воздухе, хрупкие и несбыточные, как мыльный пузырь.
Вадим не ответил сразу. Он лежал неподвижно, глядя в тёмный потолок. Его рука, лежавшая на её спине, на мгновение замерла.
— Абхазия, — повторил он наконец, и в его голосе не было ни насмешки, ни отказа. Была лишь глубокая, испепеляющая усталость.
— Это далеко.
— От чего? — она подняла на него глаза.
— От чего нам нужно быть близко, Вадим? От твоего кафе, которое сгорело? От твоих складов? От людей, которые хотели нас убить?
Он перевёл взгляд на неё. В полумраке его глаза были тёмными безднами.
—От долгов. От обязательств. У меня есть люди, которые зависят от меня. Колик, Цыган… Я не могу их просто так бросить.
— Они взрослые мужчины, — мягко, но настойчиво парировала она.
— Они справятся. А мы… мы можем просто жить. Ты не должен никому вечно расплачиваться за прошлое.
Он медленно сел, провёл рукой по лицу. Его силуэт на фоне светящегося окна казался огромным и по-прежнему несущим на себе невидимый груз.
—Ты думаешь, там, в Абхазии, не найдётся своих бандитов? Своих разборок? Я везде буду тем, кто я есть. И моё прошлое поедет со мной. Оно вон, — он ткнул пальцем в свой шрам.
— И здесь, — он приложил руку к её щеке, словно ощущая под кожей память о её поступке.
— От себя не убежишь, Анна.
— Я не предлагаю убегать, — она тоже села, обхватив колени. Простыня сползла, но ей было не холодно.
— Я предлагаю выбрать другую жизнь. Не прятаться в пустой квартире, как в бункере. А жить. Научить тебя не держать палец на курке. А я… я научусь снова играть не потому, что мне нужно забыться, а потому, что мне есть что сказать.
Он смотрел на неё, и в его глазах шла борьба. Борьба между привычной тюрьмой долга и ослепительной, пугающей свободой, которую она предлагала.
— А что мы будем там делать? — спросил он практично, но уже без прежнего железа.
—Жить, — просто сказала она.
— Ты будешь выращивать виноград или ловить рыбу. А я буду учить местных детей музыке. Или просто играть для тебя на веранде, пока ты смотришь на море.
Она говорила это с такой уверенностью, как будто уже видела эту картинку перед глазами. Видела его, загорелого, без следов постоянного напряжения на лице, с бокалом вина в руке. Видела себя с скрипкой, а не с ножом.
Он молчал долго. Потом медленно покачал головой, но не в отказ, а с какой-то горькой усмешкой.
—Ты действительно веришь, что так можно?
—Я верю, что мы можем всё, — она положила ладонь на его грудь, поверх сердца.
— После всего, что было… разве переезд в Абхазию — это самое сложное?
Он накрыл её руку своей, прижал её к себе.
—Хорошо, — тихо сказал он.
— Не сейчас. Но… хорошо. Я подумаю. Это всё, что я могу обещать сейчас.
Для человека, который всегда действовал, а не обещал, эти слова значили очень много. Это была не готовность. Это была открытая дверь. Возможность.
Она не стала давить. Она просто кивнула и прилегла обратно, прижавшись к нему. Они снова лежали в тишине, но теперь она была наполнена новым смыслом. Не бегством. А мечтой. Далёкой, призрачной, но уже существующей где-то там, за горизонтом, в краю солнца и моря.
И впервые за долгое время будущее перестало казаться им тёмным туннелем. В нём забрезжил свет. Свет абхазского солнца.