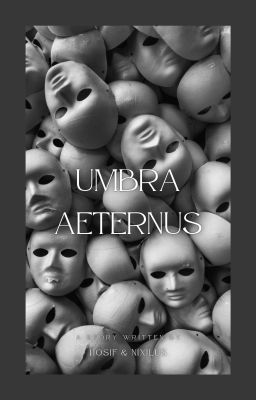Ночная трещина
Ночь сгущалась, как чернила. Снег хрустел под их сапогами, под моими лапами — молчал. Ветер то затихал, то взрывался рваными порывами, срывая полог палатки, рвал верёвки, вырывал дыхание. Их лагерь уже был не местом отдыха — ловушкой, где каждый звук казался предвестником беды.
Я стоял за кедром, смотрел, как они шепчутся, как лица их вытягиваются. У одного — руки дрожат, у другой — губы шевелятся в молитве. В их глазах больше нет огня походного веселья, только мелькающая тень страха.
Я чувствовал это, как ток. Их страх входил в меня, согревал и обжигал одновременно. Нихилус шептал в темноте:
«Sic semper incipit vera fabula... ex timore, non ex sanguine.»
(Так всегда начинается настоящая легенда — не с крови, а со страха.)
— Они уже на грани, — прошептал я. — Но почему мне кажется, что я сам ближе к ним, чем к тебе?
Голос бездны стал мягким, почти человечным:
«Quia multos annos spectas, et in eis vides te ipsum.»
(Потому что смотришь на них веками — и в них видишь себя.)
Я вышел из-за кедра. Снег упруго хрустнул. Они заметили движение — и закричали. Один выскочил из палатки босиком, за ним ещё двое. Они несли фонари, но ветер гасил свет, оставляя только дрожащие искры.
— Там! Оно движется! — крикнул кто-то.
— Беги! — крикнул другой.
Снегная крошка била мне в морду, запах их паники смешивался с запахом дыма. Я видел, как одна девушка споткнулась, упала, как другой поднял палку, будто хотел отогнать меня, как собаку.
И во мне зашевелилась память: чума в 1346, волк Жеводана, пустые палубы «Марии Целесты»... Я всегда был тем, кто приносит страх. Но теперь, глядя на этих дрожащих людей, я ощутил странную боль.
— Нихилус, — хрипло сказал я, — скажи мне, ради чего всё это?
«In fine nullum est radi. Est tantum motus abyssus.»
(В конце нет причины. Есть лишь движение бездны.)
Его слова ударили, как лёд. В этот миг я понял — мои когти, мой рык, мои ночные тени уже вошли в их сон, в их рассказы. Они видят меня во вспышках света, как уродливую тень. Они слышат мой рёв, как треск ветра. Они уже сами дорисовывают себе легенду.
Я замер. Они бежали прочь, бросив палатки, бросив вещи. Крики таяли в снежной метели. Ветер швырял мне в спину их страх, как сотни иголок.
И я, стоя в пустом лагере, вдруг понял: я сам стал свидетелем трагедии, а не только её причиной.
— Ты хотел страха, — сказал я Нихилусу. — Но, кажется, я создал миф.
«Et hoc est potentia vera — non mors, sed fabula.»
(И в этом истинная сила — не смерть, а легенда.)
Я опустил голову. Снег засыпал следы. Их шаги исчезали во мраке. С неба падали тяжёлые хлопья. Ветер выл, как хор заблудших.
И впервые за долгие века мне показалось, что я — не только чудовище, но и рассказчик, вплетающий их жизнь в огромный свиток ночи.