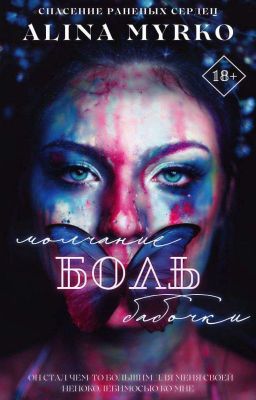Глава 47 Адам
Фильм подходил к концу — на экране вспыхивал последний фокус, финальный твист разложился по кадрам, как финальные аккорды медленной симфонии. Свет проектора всё ещё мерцал, отбрасывая на стены мягкие тени лиц, уставших, но довольных. Кто-то потянулся, кто-то уже зевал в кулак.
Я склонился к Ванессе:
— Сейчас самое время для великого побега.
Она кивнула — едва заметно, будто мы были заговорщиками, пытавшимися улизнуть с королевского бала до последнего удара часов. Мы медленно, почти неслышно встали с кресел, пока все ещё были увлечены концовкой. Мои пальцы не отпускали её руки. Как будто если я разомкну их сейчас — мир снова станет слишком громким.
Мы прошли мимо Руби, которая что-то шептала Аарону. Мимо Кристиана, сидевшего с прямой спиной, будто кто-то незримо держал его за воротник. Мимо Дерека, задремавшего, привалившись к подлокотнику. Всё это — как фон. Всё это — неважно.
Главное — шаг за шагом, по лестнице наверх, в тишину, где не будет комментариев, шуток, взглядов. Только мы.
Я закрыл за нами дверь её комнаты, и только тогда позволил себе выдохнуть. Ощущение было, будто мы сбежали из музея в живую галерею — из аккуратных рамок в то, где можно дышать.
Ванесса скинула плед, подошла к окну и отдёрнула штору. За стеклом сиял Нью-Йорк, лениво просыпающийся после затянувшегося зимнего сна. Было около двух дня — воскресный свет лежал на подоконниках, отражался в припорошенных снегом машинах и лениво стекал по стенам домов. Воздух был свежий, ясный, с той самой хрустящей прозрачностью, которая бывает только в феврале, когда солнце едва прогревает асфальт, но всё равно будто обещает весну.
Она стояла прямо, плечи расслаблены, но в осанке оставалась та внутренняя сталь, которую я всегда чувствовал в ней. Я смотрел на неё, как на явление. Не утро, не день — Ванесса. Моё настоящее. Мой фокус.
Я подошёл ближе. Мои руки сами нашли её талию, как будто каждая клетка тела знала, где ей место.
— Хочешь какао? — спросил я. — У нас была сделка.
— Хочу, — улыбнулась она. — Но только если ты пообещаешь, что останешься со мной, пока оно не остынет.
— Останусь, пока оно не остынет. Пока ты не уснёшь. Пока не взойдёт солнце. И дольше.
— Ты невозможный, — прошептала она. — И всё-таки... ты — моё самое любимое невозможное.
Я обнял её крепче. На секунду — будто пытался передать ей все слова, которые не сказаны. Все чувства, что кипят под кожей. И она поняла. Потому что ответила тем же — своим теплом. Своим доверием.
— Я мигом, — сказал я. — Две кружки, две зефирки. Без сахара, но со всей любовью мира.
Она отпустила меня не сразу.
— Ладно. Только иди быстро. Пока я снова не передумала и не заманила тебя обратно.
Я ухмыльнулся:
— Мне кажется, это ловушка с самого начала.
— Ну конечно. Я же ведьма.
Я склонился и поцеловал её в лоб.
— Тогда я — твой заклятый навсегда.
И, развернувшись, направился вниз по лестнице — туда, где осталась теплая кухня, кружки, маршмеллоу...
На кухне было тихо. Даже подозрительно. Ни звука телевизора, ни стука ложек, ни перешёптываний — только ровное гудение холодильника и чуть слышный ветер за окном. Видимо, остальные решили устроить себе паузу после фильма, а кто-то, возможно, разошёлся по комнатам. Это было идеально. Я прошёл к шкафу, достал две кружки — её любимую с отколотым краем, мою — тёмно-серую, почти чёрную, как я сам.
Какао варилось медленно. Я следил, как молоко едва-едва начинает подниматься, как порошок растворяется в нём, превращаясь в густую, ароматную смесь. Я добавил зефирки — по две в каждую кружку, как обещал, — и, уже поднимаясь по лестнице обратно, чувствовал, как этот запах будто тянет меня вверх за руку.
Дверь в её комнату была приоткрыта. Я толкнул её плечом — осторожно, чтобы не пролить, и вошёл.
Ванесса снова сидела у окна. На подоконнике, босая, в его широкой футболке, с коленями, подтянутыми к груди. Волосы спадали на плечи мягкими прядями, а в глазах была тишина. Тот редкий вид тишины, который приходит не из пустоты, а из принятия.
Она повернула голову, увидела меня — и сразу чуть смягчилась. Не улыбнулась, нет. Просто стала — тише. Ближе.
— Горячее, — сказал я, передавая ей кружку. — Как твой характер. Осторожно.
— Я обожаю, когда ты из себя остроумного строишь, — усмехнулась она, принимая чашку в ладони. — Тебе бы пиджак и стендап в Бруклине.
— О, я бы собирал аншлаги. Особенно если бы начинал с фразы: «Сегодня я проснулся рядом с ведьмой...»
— И моментально уснул обратно, — вставила она, отпив первый глоток. Щёки у неё вспыхнули от жара какао, нос чуть сморщился, но она всё равно сделала второй глоток. — Знаешь, вкусно. Почти как в детстве. Только без ощущения, что кто-то обязательно уйдёт, пока ты пьёшь.
Я сел рядом. Поставил кружку на подоконник, вытянул ноги и притянул её к себе. Она без сопротивления устроилась между моих коленей, уткнулась лбом мне в ключицу.
— А сейчас — никто не уйдёт, — сказал я. — Я точно нет.
— Надеюсь, ты прав. Потому что если уйдёшь — я превращу тебя в жабу. Вечно жующую маршмеллоу.
— Это слишком мило. Сделай из меня ворона. Или сову. Что-то ночное, печальное и готичное.
— Тогда ладно, будешь совой. Говорящей. С сарказмом и любимой кружкой.
Я рассмеялся, обнял её крепче. С улицы доносился приглушённый шум города, но здесь, в этой комнате, был только наш маленький мир. С какао, зефирками, босыми ногами и её теплом. Ничего больше не нужно.
— Слушай, Адам... — вдруг сказала она, не отрываясь от меня.
— Мм?
— Ты же знаешь, что если однажды мне станет по-настоящему плохо, я могу не сказать?
Я замер.
— Знаю, — ответил я. — Но я всё равно почувствую. Даже если ты просто захлопнешь дверь чуть громче, или перестанешь пить какао. Даже если притворишься, что всё в порядке. Я всё равно приду.
Она кивнула. Не сразу. Как будто снова — разрешала себе верить.
— Ты правда умеешь быть домом, — прошептала она.
Я прижался губами к её виску.
— Потому что ты — мой.
Она молчала. Но дыхание у неё стало мягче. Ровнее. Словно снова — отпускала себя в безопасность.
И мы сидели так — долго. Пока какао остывало. Пока солнце лениво тянулось к горизонту. Пока воскресенье не стало медленно превращаться в вечер.
Со временем, мы перемести на кровать, лежали, как два сложенных пазла, на её кровати — не в обнимку, не на расстоянии, а как-то... правильно. Её голова покоилась на моей груди, пальцы лениво рисовали круги по моему запястью, а одеяло укрывало нас с головой, будто это не просто ткань, а граница между миром и нами.
Свет с улицы уже не пробивался — за окном было серо, неясно, как перед первым снегом или перед признанием. Комната пахла её шампунем, моей кожей и чем-то тёплым, слишком настоящим, чтобы его описывать словами.
Я смотрел в потолок, но на самом деле — в её волосы. Думал. Считал дни. До её дня рождения оставалась неделя. Неделя — чтобы придумать что-то, что не будет банальным. Не будет «подарком», а будет... жестом. Символом. Тем, что останется в памяти, даже когда всё остальное выцветет.
Что-то, что скажет: я тебя вижу.
— Ты о чём-то думаешь, — пробормотала Ванесса, не открывая глаз. Голос у неё был чуть хриплым от тишины, как будто она говорила сквозь тепло. — Опять.
Я не ответил сразу. Только чуть сильнее прижал её к себе.
— Это плохо? — спросил я, потянувшись губами к её лбу.
— Зависит от того, о чём ты думаешь. — Она приподнялась на локте и заглянула мне в лицо. — У тебя этот взгляд. Полу присутствующий. Будто ты здесь, но уже где-то далеко. А это, между прочим, моё законное воскресенье.
Я усмехнулся, отводя взгляд.
— Просто мысли. Скучные. Логистика. Быт.
— Ага. — Она прищурилась. — Логистика, говоришь? Случаем не логистика, связанная с праздничными упаковками, свечами и моим именем на открытке?
— Никаких комментариев, — сказал я и потянул её обратно к себе. — Партизан я. Захваченный и молчащий.
— Ну ты и заноза, — пробормотала она, но позволила себе рухнуть обратно на мою грудь. — Обещай хотя бы, что не будет шаров и караоке.
— Обещаю. Ни шаров, ни караоке. Ни клоунов, ни фальшивых сюрпризов из коробки. Разве что... пирог в виде меня.
Она хмыкнула.
— Звучит подозрительно эротично.
— Согласен. Тогда вычёркиваем. — Я на секунду замолчал, потом добавил с нарочитой небрежностью: — А ты заметила, как часто Кристиан смотрит на Руби в последнее время? — бросил я небрежно, как будто, между прочим.
Ванесса фыркнула, приподнимаясь снова.
— Ты правда только что перевёл разговор о моём дне рождения на сплетни о других? Адам. Ты серьёзно?
— Смертельно. Это ведь отвлечёт тебя. А я — по-прежнему молчащий партизан.
— Ладно. — Выдохнула она, кладя свою голову мне на грудь. — Я заметила это с самого начала. С первого дня, как мы перевелись. Он старается делать это незаметно, но не выходит, — усмехнулась она. — Он же не камень.
— Да. Особенно когда она рядом с ним смеётся. Он как будто дышать перестаёт.
Я выдохнул, глядя в потолок.
— Он в неё по уши. Но молчит. Потому что...
— Потому что у Руби есть Стив, — сказала Ванесса с тяжёлой паузой.
Я сжал челюсть.
— Стив Гаммен, — прошипел, вспоминая рожу этого мудака. — Ты ведь заметила, да?
Ванесса ничего не сказала, но замершая рука на моем запястье была доказательством ее осведомленности. Она всегда все замечает.
— Синяк на руке? Или фингал на лице? — Бабочка возобновила свои круговые движения по моей руке. — Меня раздражает ее наивность, когда она является гением IT. Иногда мне кажется, будто в присутствии Стива мозг Руби обнуляется и она становится дурочкой из младшей школы, которая ради мальчика, который просто на нее взглянул, готова отдать последние карманные деньги, которые ей дали родители. Ты и Аарон, всегда пытаетесь встать между ними. Дерек, который всегда со всеми дружелюбен, просто на дух его не переносит. И наконец Кристиан. Он всегда держит нейтралитет, но при каждом упоминании Стива, просто на словах, его руки сжимаются в кулаки.
— Да, — выдохнул я. — Это самое страшное. Что она вроде бы... улыбается. Всё время улыбается. А внутри будто сидит тень, которую она сама себе не разрешает признать.
Ванесса тихо кивнула. Я чувствовал, как её дыхание стало чуть резче, как будто она тоже сдерживала в себе нечто. Мы оба знали — если Руби не скажет, мы не сможем вмешаться так, как хочется. А если вмешаемся без неё — можем потерять её совсем.
— Иногда я думаю, — продолжил я, — что Кристиан просто ждёт, когда Стив перегнёт палку. Он следит. Он как натянутая струна. Не вмешивается... но стоит Руби заплакать — он сорвётся.
— Сорвётся — и сломается, — прошептала Ванесса. — Потому что потом будет винить себя за то, что не сделал этого раньше.
Я обнял её крепче, закрыл глаза на секунду.
— А ещё... иногда я боюсь, что мы слишком долго ждём. Что в один день она просто исчезнет. Вся. Без остатка. И тогда никакие кулаки, никакие признания, никакие оправдания не вернут её обратно.
Ванесса не ответила. Только прижалась ближе. В этот момент она не казалась колкой, дерзкой, независимой. Она была моей. Была той, кто чувствует слишком много — и не прячет это от меня.
— Мы не допустим этого, — сказала она наконец. — Что бы ни случилось. Ты, я, Аарон, Дерек... даже если Кристиан будет молчать, я — не буду.
— Ты её защищаешь, да?
— Я её люблю, — просто ответила она. — Как сестру. Как ту часть меня, которую я узнала слишком поздно, но которую готова защищать как свою собственную кожу.
Я улыбнулся в её волосы.
— Вот почему ты ведьма. Потому что чувствуешь слишком сильно. И колдуешь не словами, а поступками.
— А ты потому и заклятый, что понимаешь это с полуслова, — шепнула она, чуть отстранившись, чтобы заглянуть в мои глаза. — Адам... я горжусь тобой. За то, как ты держишь это всё внутри. За то, как ты смотришь на Руби. За то, как не позволяешь себе бросаться обвинениями, хотя весь кипишь.
Я сглотнул.
В этот момент я не знал, что сказать. Только потянулся к ней, прижал к себе — не для утешения. А потому что больше не было сил держать эту тяжесть в одиночку.
— Мы что-то придумаем, — прошептал я. — Я обещаю.
— Вместе, — добавила она. — Только так.
И мы снова замолчали. Под одеялом. В этой тишине. Среди мыслей о Руби, Кристиане и Стиве. Среди запаха какао и её волос.
Воскресенье уходило медленно, как занавес в театре после самого честного спектакля. И где-то там, впереди, был день её рождения. День, который я хотел наполнить светом. Несмотря ни на что.
Ванесса уснула почти незаметно — сначала тише стала её ладонь, что лежала у меня на груди, потом дыхание выровнялось, как будто кто-то выключил метель внутри неё. И наконец — лицо. Оно разгладилось, освободилось от привычного напряжения, от дерзкой насмешки в уголках губ, от прищуренного прицела её бабочковых глаз.
Теперь она просто спала.
Я лежал, не двигаясь. Даже не дышал как следует — боялся спугнуть. Потому что видеть Ванессу вот так... это было редкостью. Даром.
Даже во сне она обычно держала стражу. Её плечи — всегда насторожены. Её брови — почти сдвинуты. Как будто она и в мире грёз готова встать в оборону.
Но сейчас... сейчас всё было иначе.
Я медленно повернул голову к ней. Осторожно, словно подглядывал за чем-то слишком личным. Темно-каштановые волосы, как шёлк, раскинулись по моей футболке и простыне, прядь спадала на её щёку. Я бережно убрал её, как будто дотрагивался до крыльев бабочки. Маленькая чёлка, чуть сбившаяся на лоб, заставила меня усмехнуться. Так по-детски. Так нелепо мило. Я провёл пальцем по её виску. Медленно, почти медитативно. Ванесса не шевельнулась.
Губы у неё были чуть приоткрыты — и дышала она ровно, спокойно, как будто всё в мире наконец-то стало правильным. На щеке — крошечная родинка, которую я до сих пор не переставал замечать. А ресницы... такие длинные, такие тёмные, будто нарисованные углем.
Я не мог оторвать взгляда.
Каждый миллиметр её лица казался мне знакомым, но всё равно поражал, как будто видел в первый раз. Я знал, как ярко сверкают её глаза — эти невозможные голубые, как крылья Морфо, как замёрзшее небо в утреннем Нью-Йорке. Сейчас они были спрятаны, и всё равно — даже во сне она оставалась ослепительно живой. Даже в молчании — она говорила.
Я провёл пальцем по линии её скулы, еле касаясь кожи. От уголка челюсти — к шее. Там, где я чувствовал биение пульса. Едва-едва.
Наклонился. Не целовал — просто смотрел. Почти прижавшись носом к её коже. Вдыхал её запах. Этот странный, родной аромат, в котором был и жасмин, и чернила, и что-то моё. Что-то, что невозможно объяснить. Только чувствовать.
— Ты даже во сне крадёшь у меня воздух, — прошептал я.
Она не ответила. Только слабо шевельнулась, и её ладонь снова оказалась у меня на груди.
Словно напоминание: не уходи.
Я взял её руку в свою. Впалую, чуть прохладную, с тонкими пальцами. Провёл по её косточкам большим пальцем. Прочитал наощупь всё то, что она не говорила. Сколько в ней было силы, хрупкости, красоты. Сколько в ней было меня.
Я не хотел засыпать. Хотел запомнить каждую секунду этого момента. Хотел вырезать её черты в памяти — как камень высекает имена на сердце.
Хотел дожить до утра — и разбудить её поцелуем в плечо. Или в шею. Или в лоб. Словами: «Ты проснулась в мире, где тебя кто-то обожает».
Я лёг ближе. Прижал её голову к себе. Чуть обнял за плечи. Сердце билось ровно. Но глубоко. Она дышала, и я дышал с ней. И если бы кто-то сейчас спросил, что для меня значит счастье — я бы просто показал на неё. Спящую. В моей футболке. На моей груди. В моём сердце.
Я пролежал с ней ещё немного. Долго. Ванесса не шелохнулась — спала крепко, как только умеют те, кто наконец позволил себе выдохнуть. Её дыхание было ровным и мягким, и каждый выдох, касавшийся моей груди, будто стирал из меня напряжение этого дня.
Но уже за окном сгущались сумерки. Комната окрасилась в глубокие тени, город за окном начал оживать в неоне и фаре такси. Я медленно — почти с сожалением — выбрался из постели. Накрыл её одеялом по шею, поцеловал в лоб и задержался на секунду, просто глядя на неё. Такую настоящую. Беззащитную. Мою.
Я на цыпочках прошёл мимо кухни и остановился у входа в гостиную. Она всегда казалась мне особым местом в этом доме — как сердце, в котором бьётся всё самое важное. Просторная, но не холодная. Тёплая. Обволакивающая. Мягкий свет настольной лампы заливал угол дивана, шторы были полуоткрыты, и сквозь стекло виднелся тёмный город — как будто Нью-Йорк на мгновение стал тише, чтобы не мешать уюту внутри.
Цвета здесь были такие, как у самой Ванессы в моменты тишины — светло-песочные, сливочные, чуть пыльно-розовые, с вкраплениями древесного. Огромный кремовый диван тянулся вдоль стены, усыпанный подушками, пледами, как будто ждал, пока кто-то уткнётся в него носом и провалится в забытьё. Рядом — книжный стеллаж, местами загромождённый фото, старыми вазами, свечами, будто кто-то годами собирал здесь память. В углу — большое кресло с закруглённой спинкой, в котором часто сидела Сара, закутавшись в шаль, или Ванесса, с книгой в руках, закусив губу и забыв о времени.
На полу — пушистый ковёр, в котором тонут босые ступни. Тёплый, мягкий. Домашний.
Браун стоял у каминной полки, разглядывая какие-то старые снимки. Сара всё ещё сидела на диване, только теперь закинув ноги на пуфик, с чашкой, которую грела ладонями. Всё вокруг будто шептало: Ты дома. Ты в безопасности.
Я сделал шаг внутрь, и мои пальцы провели по краю деревянного комода, на котором лежал свёрнутый в трубочку плед. Всё было слишком тихо, слишком правильно. Даже часы на стене тикали с каким-то почтением к этой тишине.
— Никогда не думал, что гостиная может чувствоваться как объятие, — сказал я вполголоса, почти себе под нос.
Сара подняла взгляд и чуть улыбнулась:
— Потому что она такими и создавалась. Из тепла. Из попытки собрать всё, что не разбилось. И оставить хоть одно место в жизни, где не страшно быть собой.
Я снова кивнул — и снова посмотрел вверх. Туда, где спала она. И где уже начинал рождаться план... для самого важного дня — даже если его нет в календаре.
Я сел на подлокотник дивана, аккуратно, чтобы не потревожить тишину. Сара посмотрела на меня с теплотой, а Браун — всё ещё молча стоял у полки, задумчиво разглядывая фотографию, которую держал двумя пальцами. Я провёл рукой по лицу, чувствуя, как между лопатками ещё оставалось невысказанное.
— Эм... — Я отвёл взгляд к камину, где догорал последний тлеющий уголь. — Могу спросить у вас кое-что странное?
Сара чуть приподняла брови:
— Адам, ты уже часть этого дома. Спрашивай что угодно.
Я кивнул и опёрся локтями на колени:
— День рождения Ванессы... Он же двадцать девятого февраля. В этом году — ну, его как бы... нет.
Сара хмыкнула, чуть печально.
— Да. Он как чудо, которое появляется только в високосный год.
— А что вы делаете, когда его нет? — Я взглянул на неё. — Когда год, как сейчас... ну, с двадцатью восьмью?
Браун обернулся, всё ещё держа в руках снимок, пока Сара тихим голосом начала:
— В те времена, когда я взяла Ванессу и Дерека под опеку, они отказывались праздновать свои дни рождения. Времена были тяжелые. Гарет умер. Айрис посадили. Они по-своему переживали. С Дереком было проще. Он был младше, возможно, он не понимал. что случилось а со временем его боль притупилась, и он смягчился. А вот с Ванессой было... — Голос Сары дрогнул, поставив чашку на столик. Освободив руки, она обняла уже кругленький животик руками, будто защищая его от жестоких воспоминаний. — Она замкнулась в себе. Ни с кем не хотела говорить. Даже с братом. Ее любовь к Айрис была безграничной, и когда ее посадили, у Ванессы будто душу забрали. Через год сестра умерла в тюрьме, и с ней ушла, хоть и редкая, но улыбка Ванессы. Мы с Дереком пытались быть рядом с ней, но моя работа забирала много сил и времени. Она будто ускользала от меня...
Я слушал, и сердце стягивали тиски от слов Сары. От того, как Ванесса, моя бабочка Морфо, моя Королева, такая сильная и уверенная, страдала, когда меня не было рядом с ней.
— А потом, — Сара подняла на меня свои зеленые, проговорила на одном дыхании: — я нашла в ее комнате коробочку, в которой была небольшая подвеска с клевером с пяти лепестков. — Я затаил дыхание, как только слова Сары достигли моих ушей. — Когда Ванесса увидела в моих руках подвеску, впервые показала мне свои эмоции. Мне стало интересно, и я спросила откуда у нее это, она ответила: «Мне его подарила моя надежда». — Эти слова выбили из меня воздух. Руки, непроизвольно сжались в кулаки, скрывая их подрагивание, а тяжелый взгляд Брауна, давал мне понимание того, что тот помнит мою истерику в детстве, когда девочка с невероятными голубыми глазами не пришла на следующий день после моего подарка. Исчезла, как сон после пробуждения. — Впервые в ее глазах я увидела не грусть, а счастье от воспоминаний. И так я узнала о мальчике с парка, а щенке, которого она отдала ему, а взамен получила эту цепочку. И с тех пор она начала открываться мне. Впервые спросив о ее дне рождении, она не проигнорировала меня, а сказала, что можно отпраздновать двадцать восьмого. Она сделала этот выбор. Когда я спросила почему не отпраздновать и первого марта, она сказала, что если её день рождения крадут календарные боги, то она хочет отпраздновать его до того, как он исчезнет. А не после.
Я не сразу вернулся наверх. Стоял в гостиной ещё несколько минут, слушая, как потрескивает дерево в камине. Сара ушла на кухню — варить какой-то свой ромашковый отвар, а Браун растворился в полумраке коридора, как это у него получалось — тихо и беззвучно, но искоса бросая на меня свой взгляд. Я остался один, с отблесками огня и мыслями, греющими куда сильнее.
Когда я наконец поднялся, в доме царила та тишина, что наступает только глубокой ночью — когда не спят только сторожевые псы и те, кто влюблён. Я прошёл по коридору, стараясь не скрипнуть половицей, открыл дверь в комнату Ванессы и замер.
Она спала, свернувшись калачиком под пледом, так, как делает это всегда — уткнувшись щекой в руку, с едва заметной складкой между бровей, будто даже во сне ей не даёт покоя что-то важное. Её волосы распластались по подушке, густые, темно-каштановые, с золотистой тенью от ночника. Казались мягче облаков и пахли чем-то домашним — мёдом, книгами и чем-то сугубо ею.
Я подошёл ближе и сел рядом. Не смог удержаться — провёл пальцами по пряди её волос. Осторожно, как будто это что-то хрупкое и живое. Она пошевелилась, чуть вздохнула, но не проснулась. Только губы её дрогнули, будто она пыталась что-то сказать мне из сна.
Я замер. Смотрел. Долго. Просто смотрел, замирая от ощущения, будто держу в руках целый мир.
Как можно любить вот так? До костей. До света в горле. До того самого чувства, которое даже не помещается в слово «любовь».
Я наклонился, коснулся губами её виска.
— Я устрою тебе день, Ванесса, — шепнул я. — Твой день. Даже если его нет в календаре.
И остался так — рядом, молча, пока ночь за окном медленно выдыхала свой последний тёплый сон.