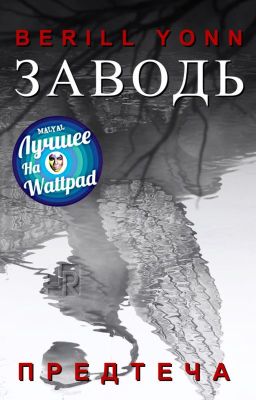Думы в кофейной банке
Когда Мелихов покинул квартиру одного никому не известного художника, почти тут же туда явилась Нина Апрелева. Стоило только на пороге появиться маленькой худосочной девочке, которой на вид было лет пятнадцать или шестнадцать, все присутствующие тут же удивлённо переглянулись: их поразила эта нежная юность.
Смотрите, смотрите, это та самая Нина Апрелева – та самая загадочная художница, в интернете скрывающаяся под ником april-n!
Присутствующие – поэты, художники, музыканты – обступили её, предложили бокал шампанского. Все они вновь позабыли о первоначальном поводе своего присутствия в этой квартире, как будто бы никогда не было никакой поэтессы Миланы Малявиной. Позабыли они и о покинувшем вечер Мелихове, которому, по-хорошему, должны были выражать какие-то соболезнования, потому что он был последним, с кем Милана Малявина тесно общалась.
А Нина взяла с подноса предложенный бокал, растерянно улыбнулась. Шампанское, томящееся в стекле, растворяло в себе электрический свет. В дрожащих спиралях нитей накаливания желтизной светил натрий и казалось, что это натрий, а не кусочек сухого льда на дне бокала с шампанским испускает вверх нити крошечных пузырьков, качается сединой дымка над поверхностью – и бокал разлетится в руках на острые осколки, ослепив вспышкой жёлтого света. Нина закрывала глаза и видела такой же седой туман, плывущий над синей гладью воды. В этом видении она держала в руках не стеклянный бокал с весёлым шампанским, а маленькую фигурку химеры. Вокруг головы её не собиралось удушливого спёртого воздуха, пропитавшегося хмельными запахами – она вдыхала пышное разнотравье и свежесть близкой воды, потому что так было в детстве.
– И надолго вы к нам, – обратились из настоящей реальности, не пощадив зыбких воспоминаний, – Нина..? – не знали её отчества.
– Петровна, – подсказала она, раскрывая глаза, и оказалась маленькой беззащитной девочкой, стоящей посреди комнаты и смотрящей сквозь слёзную пелену. – Не знаю, как надолго. Признаться, поездка была немного не запланированной...
– А где вы остановились?
– У подруги. В Девяткине.
– А вы думаете перебраться в Питер на постоянной основе?
Нина Апрелева – дочь Марьи Вендель – она не должна уметь отпускать тех мест, где оставалась её память. Принятая пустым Междумирьем – Нина, её самое большое человеческое начало, оставалось приковано тяжёлым якорем к тому неизвестному городку, где прошло её детство. И этот вопрос был нереально кощунственным, потому что его задали той девочке, которой предписано было остаться легендой, поселившейся в брошенных стенах.
Она помотала головой.
– Нет. Там моя память – а тут что у меня есть? По сути, ничего. Я тут совсем чужая, а там похоронены мои родители, Аля. Я там родилась, выросла. Да и просто – маленькие городки как-то мне больше по душе...
– И зачем же тогда вы сюда приехали? – претенциозно и заносчиво поинтересовалась подошедшая к ней Маргарита, с высоты своего роста глядевшая надменными зелёными глазами.
– Секрет, – звонко хохотнула Нина Апрелева – для всех остальных.
Маргарита догадывалась, что это за секрет, отчего и мучилась невыносимо сильными противоречивыми чувствами. При взгляде на Нину Апрелеву она, для начала, видела свою соперницу в этом обществе: здесь и сейчас они – лёд и пламя. Маргарита – сдержанная, преисполненная чувства собственного достоинства, горделивая и изящная женщина, притягательная своей загадочностью и демонстративной неестественностью. Никто не знает, где в ней правда, а где ложь – а Маргарита сочится разрушительным духом декадентства. Она обманчива, как большой город.
То ли дело – Нина Апрелева: забыть, что никто не знает, какого же она всё-таки возраста, потому что Нину лучше видеть просто девчоночкой лет пятнадцати-шестнадцати. Она с наслаждением дышит своей нескончаемой юностью и мироточит живостью, заражает всех вокруг неисчерпаемой энергией. Что бы она ни делала, что бы ни говорила – безоговорочно, всё оно совершенно искренне. Вся она была так же естественна и проста, как смена дня и ночи, что не делало её более предсказуемой.
Только всё равно Нину в этом обществе беспощадно считали провинциалкой, отчего, видимо, и умилялись её худеньким коленочкам.
Маргарита таинственно поманила её в прихожую, где уже накидывала на плечи меховое манто, заботливо поданное каким-то мужчиной. Оставив на подносе бокал с недопитым шампанским, Нина Апрелева попросила прощения у собравшихся, смущённо улыбнулась и проследовала за Маргаритой. Они вдвоём вышли в парадную. Привычным движением руки подобрав полы длинной юбки, Маргарита спустилась в тот самый пролёт между этажами, в котором не так давно задержался Роман Мелихов. Маргарита не скрывала брезгливости, когда рассматривала стены, исцарапанные его хорошими или совсем бесталанными стишками. Она брезговала просто стоять на затоптанный плитках, выложенных незамысловатым узорчиком, брезговала смотреть на беспомощно забившиеся в банку из-под растворимого кофе бычки, хотя сама почему-то пришла именно сюда.
Наконец, она сосредоточенно сжала в зубах мундштук, прикурила сигарету от позолоченной зажигалки. Пламя, гревшее её руки жёлтыми всполохами, замкнутое в её ладонях, как в узорчатом подсвечнике, нервически плясало, уклоняясь от порывов взволнованного дыхания.
Нина устроилась на серой ступеньке, натянула край платьица на бледные коленки и блуждающим взглядом принялась изучать надписи на стенах. Казалось, её вовсе не смущало ожидание, не напрягало напряжение Маргариты. Она чувствовала себя то ли в гостях, то ли дома – никак не могла понять.
Такое их двустороннее молчание первой нарушила Маргарита:
– Здесь слишком холодно. Не стоит сидеть на лестнице, – и передёрнула плечами под встопорщившимся мехом чёрного манто. – Может быть, конечно, те, кто заполучил вечную молодость, не простужаются...
Из винно-красных губ её в сероватую муть парадной вытек ещё более мутный дым.
Нина Апрелева заулыбалась – своей открытой, лучезарной улыбкой, какой улыбалась ещё та молчаливая девочка. Что-то, единственно, смущённое было в этой улыбке: Нина почувствовала себя немного неловко, когда эта женщина, которую она совершенно не знала, напомнила об её бессмертии. Поэтому она подняла на Маргариту вопрошающие глаза – вопрошающие, но испуганные, как глаза забитой собаки.
– Извините, но почему вы вдруг заговорили об этом?
Маргарита захохотала.
– О, вы и вправду такая наивная? Нет, нет, я хорошо наслышана о вас. Вы умная женщина и должны понимать, что эта наивность работает только с мужчинами! Вы думаете, никто ни из пришлых, ни из чародеев в этом городе не знает имени единственной во всей истории Дельты?
– Ах вот оно что! – подхватила Нина Апрелева. – Значит, вы – ведьма?
– Чистильщица, – гордо поправила Маргарита, хотя слова Нины ни в коем случае не шли в противоречие с этой её поправкой. – И я догадываюсь, зачем вы приехали. Прошу прощения за то, что так резко повела себя... – и осторожно, почти виновато улыбнулась. – Думаю, вы поймёте меня. Впрочем, мы же не об этом, верно?
Нина Апрелева смотрела на неё с надеждой, но не прощала её резкости, потому что не находила ничего обидного. Вперёд слов Маргариты уже угадывалось тающее с сизыми клубами дыма: Маргарита хочет как-то помочь. Она прекрасно знает, зачем Нина Апрелева здесь – но такие люди обязательно просят что-то взамен своей добродетели. Есть в них всех что-то от страшного Чёрного бога.
– Я знаю, вы ищите Белбога, – продолжила она.
Черты её красивого лица растворялись в облаке табачного дыма, таяла благоговейная улыбка на винно-красных губах. Речь её – слышала Нина – звучала одухотворённо, когда она упоминала Белбога.
– Я могу облегчить ваши поиски, могу дать его нынешний адрес. Я могу даже указать вам на его отца – он здесь. Я могу привести вам его близкого приятеля. Вот только другой вопрос: как вы думаете защитить его?
Пауза.
В этом вопросе Нина расслышала какой-то намёк.
– Что вы имеете в виду? – не поняла она. – Вы́ думаете защищать его?
Маргарита кивнула. Дёрнулась рыжая кудряшка на её шее.
Нина Апрелева поднялась на ноги.
Это странно: Нина Апрелева научилась не доверять людям. По крайней мере, эта женщина, в которой было, было что-то жуткое от Кукловода, не вызывала у неё доверия. Пытливым взором художника Нина рассматривала сквозь полумрак парадной лицо Маргариты. На этом лице редкие веснушки скрыты слоем тональной основы и пудры – и никто не должен видеть, что эти веснушки есть. Там Чистильщица – ведьма, сама себя так окрестившая.
Нина не хотела продолжать этот разговор: здесь чувствовался какой-то подвох. Она повернулась к Маргарите спиной, положила руку на перило. Бледненькая ножка её согнулась в колене.
Маргарита хотела рвануться следом – но только протянула руку.
– Постойте!
Нина Апрелева остановилась, обернулась через плечо. Теперь она смотрела сверху вниз на высокую Маргариту. Просто в этот момент в голосе Маргариты болезненно дрогнуло что-то.
– Я смогу, – продолжила более настойчивым тоном Маргарита, – его защитить. Я единственная, кто действительно сможет это сделать. Вы не верите мне, Нина Петровна?
– Нет, – честно призналась Нина, не скрывая грусти.
Винно-красные губы Маргариты дрогнули в туманной полуулыбке. Нина Апрелева – художница, улавливающая человека до мельчайших деталей, – увидела, как в этот самый момент черты лица её собеседницы смягчились, из них исчезла вся злоба, а её сменила безысходная тоска разочарования. Нина видела, что этой женщине непривычно и чуждо такое открытое выказывание эмоций: она должна была быть потрясающей в своей неестественности, когда неестественность была её самым большим секретом.
Стряхивая пепел с сигареты, Маргарита грустно вздохнула:
– А ведь у нас принято считать, что Нина Апрелева стала Ниной Апрелевой только потому, что до последнего не разочаровывалась и верила... – и такая горькая насмешка, досада в этом разочаровании беспощадно полосовали слух.
Яд вновь наполнял Маргариту, а Нина даже не знала её человеческого имени. Маргарита потушила и вынула дотлевшую до основания сигарету из мундштука, брезгливо закинула в стеклянную банку из-под растворимого кофе к другим таким же окуркам, беспомощно черневшим своими кончиками. Именно в этот самый момент Нина увидела слишком много: увидела настоящую Маргариту (Чистильщицу ли, Охотницу ли); увидела, что все самые тяжёлые думы безнадёжно набились в банку из-под кофе и остались забыты там.
Она поёжилась, как будто бы каждую из этих сигарет тушили об её кожу, но затем уверенно выпрямилась. Обязательно надо возразить:
– Да, я верю в людей – но разве это значит, что я должна верить человеку, который, кажется, насквозь пропитан ядом? Конечно, то, что я говорю, ужасно, но пока я не знаю даже вашего имени, я могу предположить даже и то, что вы пособничаете Кукловоду.
– Что?!
Глаза Маргариты округлились в возмущении – но тут же она сменилась в лице.
– Меня зовут Мара Дункель, – спокойно проговорила она. – Это сокращение и от Маргариты, и от Марины. Я правда хочу помочь вам, хочу защитить Пророка... – и здесь ненадолго смолкла, но в это молчание её было вложено столько сокрушающей боли.
Она по-прежнему стояла в пролёте между этажами, печально следила за медленно спускающейся к ней Ниной и нервно поправляла то и дело соскальзывавшее с плеч манто. Нина осторожно и виновато посматривала на неё и уже догадывалась, предвкушала ли, что она скажет вкрадчиво:
– На то есть сугубо личные причины.
Нина повесила голову набок, на груди сжала руку в кулак.
– Простите меня, пожалуйста. Я должна была всё понять.
Зелёные глаза Маргариты смотрели снисходительно.
– Бросьте, Нина... Нина Петровна. Я сама во всём виновата и чувствую себя ответственной за него, за его жизнь. Думаю, вы поймёте меня, если я скажу, что сильно люблю его и готова всё принести в жертву, лишь бы он остался жив и ему не угрожала опасность, – и вздохнула, до боли тяжело и сокрушённо. – Но он променял меня на какую-то девчонку! Ну чем, чем она лучше меня?!
Нина осторожно приблизилась к ней, заглянула в зелёные глаза и непонимающе спросила:
– Кто – она?
В мягкой полосочке нижнего века подёрнулась лёгкая слеза, но Маргарита только махнула рукой и отвернулась. Промолчала.
– Ладно, – растерянно пожала плечами Нина, согласилась, хотела утешить, обнять, но Мара отстранила её.
– Извините, я не должна была ничего рассказывать вам, – вздохнула она, потирая двумя пальцами переносицу. – Всё. Мне пора домой, – заговорила отрывисто. – Меня ждут. До свидания, – и вложила ей в руку визитку, на которой было написано: «Маргарита Дункель. Модель».
Нина поднесла визитку к глазам – вчитывалась в написанное на ней внимательно, как будто то ли ничего не понимала, то ли забыла грамоту, то ли подозревала что-то. Когда же она, наконец, спрятала визитку в карман платья, Маргарита, с которой они так и не попрощались, просто исчезла. Остались постепенно удаляющиеся шаги в полумраке парадной, зелёный столб мусоропровода, печальные бычки в стеклянной банке из-под кофе и стихи безымянного поэта на стенах.
Эти стены, обласканные снаружи дыханием осенних ветров, изнутри были теплы для неё отнюдь не потому, что нагревались от батарей центрального отопления: они напоминали Нине стены Интерната – и ей казалось, с ними можно разговаривать. Закрыв глаза, она стала осторожно водить кончиками пальцев по штукатурке. Она стала молчаливо звать где-то на краю своего сознания: Синий Человек, Мудрец Мудрецов, всезнающий и всевидящий...
– Расскажи мне об этих людях, – тихо попросила она, когда ей предстал Угомон зыбкими страницами Книги Ветров.
В Книге Ветров страницы без слов.
Угомон любит чудесные метаморфозы, как человеческая фантазия любит безумные образы. Доверяя Нине Апрелевой, он мог показываться ей в любой виде, но более всего он был привычен ей в антропоморфной форме или в форме Книги Ветров со ртутно-стеклянными страницами, к которым боязно прикоснуться.
– Дотронься до меня, – прозвенел ей в ответ Угомон – и голос его лился отовсюду, потому что он был всем сразу.
Нина покорно возложила ладони на призрачные страницы, похожие на тонкую наледь – а они трепетали от её прикосновений и, кажется, таяли от человеческого тепла. Казалось, под ладони затекала прохладная вода. Нина чувствовала, что стоит у священного аналоя...
Угомон – сгусток энергии, разросшийся до пространства – перекатился с одного своего конца на другой хрустальным смехом.
– Ты всё ещё называешь меня Синим Человеком, – подметил он. – Как же так, Нина? неужели ты, вечно молодая снаружи, не меняешься и изнутри? Зачем тебе это бесконечное время, если ты не используешь его как время?
Нина слушала его внимательно – Мудреца Мудрецов! – а горло её сдавливал слёзный комок. Он так впивался, как если бы был комком наждачной бумаги, посыпанным осколками стекла и обмотанным колючей проволокой. Определённо, Угомон издевается над нею – но за что? почему он так жесток?
Но она всё равно не торопилась убирать рук с холодных трепещущих страниц.
– Все сегодня упрекают тебя. Всем ты не такая, как должно. И Двуликая тоже упрекнула тебя в том, что ты претишь её ожиданиям, что ты не веришь ей. А ведь ты всё сделала правильно, потому что этой ведьме нельзя доверят – но потом твоё сердце подвело тебя. Опять. И ведь всё то, что ты услышала от меня, перекрывает стойкость твоего сердца – всё то, что ты сумела пронести через все эти годы и не растерять. В твоё мягкое, тёплое сердечко так часто попадали отравленные стрелы, наносили болезненные раны. Ты всегда прибегала ко мне, к твоему доброму Угомону, и я укрывал тебя от этого жестокого мира. Я отогревал тебя – и ты продолжала свой путь.
Ты не представляешь, насколько дорога мне сама, насколько дорога мне твоя вера. Ты – один из тех солнечных лучей, освещающих Землю, чтобы люди видели всё таким, какое оно есть. Поэтому я должен беречь тебя. Но за целую вечность я и не подумал бы, что скажу такой: остерегайся Двуликой, не верь ей. Обходи её стороной.
Угомон был удивительно нежен к Нине – но как всё было непонятно! Нина словно чувствовала его объятия, но совершенно не понимала, что он говорит.
– Я не понимаю: зачем?
– Я видел всё, что она делала раньше. Не хочу, чтобы она навредила тебе. Прекрасная снаружи – внутри она гнилая. Не верь ни единому её слову.
– Нет. Так нельзя. Я верю, что она не сделает такого – во имя любви. Лучше скажи... Мне интересно: кто пишет эти стихи на стенах? – просто потому, что какие-то из этих стихов очень понравились Нине.
Угомон словно не слышал её – твердил, почти умолял:
– Не надо ей верить.
А Нина вспоминала стройную фигуру Маргариты в чёрном платье – такую чужую и одинокую в этом пролёте между лестничными маршами – и ей казалось, что такая и есть Нефтяная Венера. А откуда ей знать, что стихотворение это посвящено безымянным поэтом вовсе не рыжей бестии?..
Да сколько ещё безымянных поэтов знавали разные стены разных домов? Кто-то из них, из этих неизвестных творцов, – его уже давно нет в живых, а где-то под слоем потрескавшейся краски надёжно запрятаны его стихи. Он мог бы и не придавать такого большого значения своим строчкам, но как бы там ни было, вряд ли он знал: они растворяются на мрачной поверхности озера под названием Тот Питер.
Из всех неизвестных поэтов один только Мелихов знал – сознательно оставлял свои вирши на съедение потустороннему зеркалу своего страшного города, но не мог считаться счастливчиком. Внутри него мучительно завывали отголоски тайного отображения города – города жёлтого дьявола – но срывались и падали, истошно барахтались и бултыхались в собственном мраке. В этом мраке погрязала смерть, зашифрованная в буквы.
И этой поздней синей ночью Мелихов продирался сквозь вздыбившуюся поросль домов, в противоположном направлении от своего общежития – в дом, откуда вынесут гроб. Митя уснул за включенным компьютером, уронил голову на грудь. Бледный монитор ещё освещал его волосы, кусочек лица мертвенным свечением. Шумел, пыхтел системны блок – и слышался в этом пыхтении зовущий шёпот Чёрного Битарда, заплутавшего где-то среди серверов.
Настырный звонок. Второй, третий. Митя вынырнул из сна, встряхнул сальными кудрями. Темнота окружала со всех сторон, один из её призраков затаился за дверью. Страшно вставать, выходить из комнаты и идти открывать: кого это принесло так поздно? может, мёртвая мамка пришла?..
Четвёртый звонок. Звонков больше, чем в театре.
В квартиру ввалился незнакомец со страшными неподвижными глазами и по-хозяйски водрузил на стол две бутылки пива.
– Привет, Мить. Я Рома Мелихов. В общем, пришёл, как говорится, выразить соболезнования... Мама твоя – хорошая тётка была. Представляю, как, наверное, тяжело. Ты только это, не падай духом, как говорится...
– Эм-м... зачем ты... ээээ... пришёл? – несколько возмущённо, но в замешательстве спросил Митя.
Привыкший быть на всём готовом, он не чувствовал себя ни хозяином квартиры, ни хозяином положения. Этот наглый незнакомец, от которого пивом за версту разит – да чего ж он тут позабыл? Митя боялся его, боялся делать что-то против – озирался по сторонам, искал взглядом мать, хотел позвать её, но осознавал, что ничего не выйдет, никто не откликнется.
Мелихов вздохнул:
– Говорю же тебе, выразить соболезнования пришёл, – Он говорил уверенно, хотя и был пьян. – Ты не бойся, присаживайся. Я не мошенник никакой. Я просто подумал, что тебе поддержка нужна. Сам просто, как говорится, убивался сейчас – хорошая же тётка была, жалко.
На самом деле, он немного не договаривал: он же видел. Всё видел...
Он откупорил бутылку. Из горлышка вытекла струйка белёсого пара. Вторую бутылку Мелихов поставил перед Митей.
– Помянем?
Тот огрызнулся:
– Поминают водкой.
– Ну дава-ай, – заискивающе протянул Мелихов. – Не буду же в чужом доме я пить один?
jd