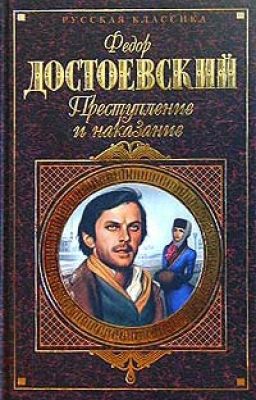Часть третья I
Раскольников приподнялся и сел на диване.
Он слабо махнул Разумихину, чтобы
прекратить целый поток его бессвязных и
горячих утешений, обращенных к матери и
сестре, взял их обеих за руки и минуты две
молча всматривался то в ту, то в другую.
Мать испугалась его взгляда. В этом взгляде
просвечивалось сильное до страдания чувство,
но в то же время было что-то неподвижное,
даже как будто безумное. Пульхерия
Александровна заплакала.
Авдотья Романовна была бледна; рука ее
дрожала в руке брата.
– Ступайте домой… с ним, – проговорил он
прерывистым голосом, указывая на
Разумихина, – до завтра, завтра всё… Давно
вы приехали?
– Вечером, Родя, – отвечала Пульхерия
Александровна, – поезд ужасно опоздал. Но,
Родя, я ни за что не уйду теперь от тебя! Я
ночую здесь подле…
– Не мучьте меня! – проговорил он,
раздражительно махнув рукой.
– Я останусь при нем! – вскричал Разумихин,
– ни на минуту его не покину, и к черту там
всех моих, пусть на стены лезут! Там у меня
дядя президентом.
– Чем, чем я возблагодарю вас! – начала
было Пульхерия Александровна, снова сжимая
руки Разумихина, но Раскольников опять
прервал ее.
– Я не могу, не могу, – раздражительно
повторял он, – не мучьте! Довольно, уйдите…
Не могу!..
– Пойдемте, маменька, хоть из комнаты
выйдем на минуту, – шепнула испуганная
Дуня, – мы его убиваем, это видно.
– Да неужели ж я и не погляжу на него, после
трех-то лет! – заплакала Пульхерия
Александровна.
– Постойте! – остановил он их снова, – вы всё
перебиваете, а у меня мысли мешаются…
Видели Лужина?
– Нет, Родя, но он уже знает о нашем
приезде. Мы слышали, Родя, что Петр
Петрович был так добр, навестил тебя
сегодня, – с некоторою робостию прибавила
Пульхерия Александровна.
– Да… был так добр… Дуня, я давеча Лужину
сказал, что его с лестницы спущу, и прогнал
его к черту…
– Родя, что ты! Ты, верно… ты не хочешь
сказать, – начала было в испуге Пульхерия
Александровна, но остановилась, смотря на
Дуню.
Авдотья Романовна пристально вглядывалась
в брата и ждала дальше. Обе уже были
предуведомлены о ссоре Настасьей, насколько
та могла понять и передать, и исстрадались в
недоумении и ожидании.
– Дуня, – с усилием продолжал Раскольников,
– я этого брака не желаю, а потому ты и
должна, завтра же, при первом слове, Лужину
отказать, чтоб и духу его не пахло.
– Боже мой! – вскричала Пульхерия
Александровна.
– Брат, подумай, что ты говоришь! –
вспыльчиво начала было Авдотья Романовна,
но тотчас же удержалась. – Ты, может быть,
теперь не в состоянии, ты устал, – кротко
сказала она.
– В бреду? Нет… Ты выходишь за Лужина для
меня. А я жертвы не принимаю. И потому, к
завтраму, напиши письмо… с отказом… Утром
дай мне прочесть, и конец!
– Я этого не могу сделать! – вскричала
обиженная девушка. – По какому праву…
– Дунечка, ты тоже вспыльчива, перестань,
завтра… Разве ты не видишь… – перепугалась
мать, бросаясь к Дуне. – Ах, уйдемте уж
лучше!
– Бредит! – закричал хмельной Разумихин, –
а то как бы он смел! Завтра вся эта дурь
выскочит… А сегодня он действительно его
выгнал. Это так и было. Ну, а тот
рассердился… Ораторствовал здесь, знания
свои выставлял, да и ушел, хвост поджав…
– Так это правда? – вскричала Пульхерия
Александровна.
– До завтра, брат, – с состраданием сказала
Дуня, – пойдемте, маменька… Прощай, Родя!
– Слышишь, сестра, – повторил он вслед,
собрав последние усилия, – я не в бреду; этот
брак – подлость. Пусть я подлец, а ты не
должна… один кто-нибудь… а я хоть и подлец,
но такую сестру сестрой считать не буду. Или
я, или Лужин! Ступайте…
– Да ты с ума сошел! Деспот! – заревел
Разумихин, но Раскольников уже не отвечал, а
может быть, и не в силах был отвечать. Он лег
на диван и отвернулся к стене в полном
изнеможении. Авдотья Романовна любопытно
поглядела на Разумихина; черные глаза ее
сверкнули: Разумихин даже вздрогнул под
этим взглядом. Пульхерия Александровна
стояла как пораженная.
– Я ни за что не могу уйти! – шептала она
Разумихину чуть не в отчаянии, – я останусь
здесь, где-нибудь… проводите Дуню.
– И всё дело испортите! – тоже прошептал, из
себя выходя, Разумихин, – выйдемте хоть на
лестницу. Настасья, свети! Клянусь вам, –
продолжал он полушепотом, уж на лестнице, –
что давеча нас, меня и доктора, чуть не
прибил! Понимаете вы это! Самого доктора! И
тот уступил, чтобы не раздражать, и ушел, а я
внизу остался стеречь, а он тут оделся и
улизнул. И теперь улизнет, коли раздражать
будете, ночью-то, да что-нибудь и сделает
над собой…
– Ах, что вы говорите!
– Да и Авдотье Романовне невозможно в
нумерах без вас одной! Подумайте, где вы
стоите! Ведь этот подлец, Петр Петрович, не
мог разве лучше вам квартиру… А впрочем,
знаете, я немного пьян и потому… обругал; не
обращайте…
– Но я пойду к здешней хозяйке, – настаивала
Пульхерия Александровна, – я умолю ее, чтоб
она дала мне и Дуне угол на эту ночь. Я не
могу оставить его так, не могу!
Говоря это, они стояли на лестнице, на
площадке, перед самою хозяйкиною дверью.
Настасья светила им с нижней ступеньки.
Разумихин был в необыкновенном
возбуждении. Еще полчаса тому, провожая
домой Раскольникова, он был хоть и излишне
болтлив, что и сознавал, но совершенно бодр и
почти свеж, несмотря на ужасное количество
выпитого в этот вечер вина. Теперь же
состояние его походило на какой-то даже
восторг, и в то же время как будто все
выпитое вино вновь, разом и с удвоенною
силой, бросилось ему в голову. Он стоял с
обеими дамами, схватив их обеих за руки,
уговаривая их и представляя им резоны с
изумительною откровенностью и, вероятно,
для большего убеждения, почти при каждом
слове своем, крепко-накрепко, как в тисках,
сжимал им обеим руки до боли и, казалось,
пожирал глазами Авдотью Романовну,
нисколько этим не стесняясь. От боли они
иногда вырывали свои руки из его огромной и
костлявой ручищи, но он не только не
замечал, в чем дело, но еще крепче
притягивал их к себе. Если б они велели ему
сейчас, для своей услуги, броситься с
лестницы вниз головой, то он тотчас же бы
это исполнил, не рассуждая и не сомневаясь.
Пульхерия Александровна, вся встревоженная
мыслию о своем Роде, хоть и чувствовала, что
молодой человек очень уж эксцентричен и
слишком уж больно жмет ей руку, но так как в
то же время он был для нее провидением, то и
не хотела замечать всех этих эксцентрических
подробностей. Но, несмотря на ту же тревогу,
Авдотья Романовна хоть и не пугливого была
характера, но с изумлением и почти даже с
испугом встречала сверкающие диким огнем
взгляды друга своего брата, и только
беспредельная доверенность, внушенная
рассказами Настасьи об этом странном
человеке, удержала ее от покушения убежать
от него и утащить за собою свою мать. Она
понимала тоже, что, пожалуй, им и убежать-то
от него теперь уж нельзя. Впрочем, минут
через десять она значительно успокоилась:
Разумихин имел свойство мигом весь
высказываться, в каком бы он ни был
настроении, так что все очень скоро узнавали,
с кем имеют дело.
– Невозможно к хозяйке, и вздор ужаснейший!
– вскричал он, убеждая Пульхерию
Александровну. – Хоть вы и мать, а если
останетесь, то доведете его до бешенства, и
тогда черт знает что будет! Слушайте, вот что
я сделаю: теперь у него Настасья посидит, а я
вас обеих отведу к вам, потому что вам
одним нельзя по улицам; у нас в Петербурге
на этот счет… Ну, наплевать!.. Потом от вас
тотчас же бегу сюда и через четверть часа,
мое честнейшее слово, принесу вам донесение:
каков он? спит или нет? и все прочее. Потом,
слушайте! Потом от вас мигом к себе, – там у
меня гости, все пьяные, – беру Зосимова –
это доктор, который его лечит, он теперь у
меня сидит, не пьян; этот не пьян, этот
никогда не пьян! Тащу его к Родьке и потом
тотчас к вам, значит в час вы получите о нем
два известия, – и от доктора, понимаете, от
самого доктора; это уж не то что от меня!
Коль худо, клянусь, я вас сам сюда приведу, а
хорошо, так и ложитесь спать. А я всю ночь
здесь ночую, в сенях, он и не услышит, а
Зосимову велю ночевать у хозяйки, чтобы был
под рукой. Ну что для него теперь лучше, вы
или доктор? Ведь доктор полезнее, полезнее.
Ну, так и идите домой! А к хозяйке
невозможно; мне возможно, а вам
невозможно: не пустит, потому… потому что
она дура. Она меня приревнует к Авдотье
Романовне, хотите знать, да и к вам тоже… А
уж к Авдотье Романовне непременно. Это
совершенно, совершенно неожиданный
характер! Впрочем, я тоже дурак… Наплевать!
Пойдемте! Верите вы мне? Ну, верите вы мне
или нет?
– Пойдемте, маменька, – сказала Авдотья
Романовна, – он верно так сделает, как
обещает. Он воскресил уже брата, а если
правда, что доктор согласится здесь ночевать,
так чего же лучше?
– Вот вы… вы… меня понимаете, потому что
вы – ангел! – в восторге вскричал Разумихин.
– Идем! Настасья! Мигом наверх, и сиди там
при нем, с огнем; я через четверть часа
приду…
Пульхерия Александровна хоть и не убедилась
совершенно, но и не сопротивлялась более.
Разумихин принял их обеих под руки и
потащил с лестницы. Впрочем, он ее
беспокоил: «хоть и расторопный, и добрый, да
в состоянии ли исполнить, что обещает? В
таком ведь он виде!..»
– А, понимаю, вы думаете, что я в таком
виде! – перебил ее мысли Разумихин, угадав
их и шагая своими огромнейшими шажищами
по тротуару, так что обе дамы едва могли за
ним следовать, чего, впрочем, он не замечал.
– Вздор! то есть… я пьян, как олух, но не в
том дело; я пьян не от вина. А это, как я вас
увидал, мне в голову и ударило… Да наплевать
на меня! Не обращайте внимания: я вру; я вас
недостоин… Я вас в высшей степени
недостоин!.. А как отведу вас, мигом, здесь
же в канаве, вылью себе на голову два ушата
воды, и готов… Если бы вы только знали, как
я вас обеих люблю!.. Не смейтесь и не
сердитесь!.. На всех сердитесь, а на меня не
сердитесь! Я его друг, а стало быть, и ваш
друг. Я так хочу… Я это предчувствовал…
прошлого года, одно мгновение такое было…
Впрочем, вовсе не предчувствовал, потому что
вы как с неба упали. А я, пожалуй, и всю ночь
не буду спать… Этот Зосимов давеча боялся,
чтоб он не сошел с ума… Вот отчего его
раздражать не надо…
– Что вы говорите! – вскричала мать.
– Неужели сам доктор так говорил? –
спросила Авдотья Романовна, испугавшись.
– Говорил, но это не то, совсем не то. Он и
лекарство такое дал, порошок, я видел, а вы
тут приехали… Эх!.. Вам бы завтра лучше
приехать! Это хорошо, что мы ушли. А через
час вам обо всем сам Зосимов отрапортует.
Вот тот так не пьян! И я буду не пьян… А
отчего я так нахлестался? А оттого, что в спор
ввели, проклятые! Заклятье ведь дал не
спорить!.. Такую чушь городят! Чуть не
подрался! Я там дядю оставил,
председателем… Ну, верите ли: полной
безличности требуют и в этом самый смак
находят! Как бы только самим собой не быть,
как бы всего менее на себя походить! Это-то
у них самым высочайшим прогрессом и
считается. И хоть бы врали-то они по-своему,
а то…
– Послушайте, – робко перебила Пульхерия
Александровна, но это только поддало жару.
– Да вы что думаете? – кричал Разумихин,
еще более возвышая голос, – вы думаете, я
за то, что они врут? Вздор! Я люблю, когда
врут! Вранье есть единственная человеческая
привилегия перед всеми организмами.
Соврешь – до правды дойдешь! Потому я и
человек, что вру. Ни до одной правды не
добирались, не соврав наперед раз
четырнадцать, а может, и сто четырнадцать, а
это почетно в своем роде; ну, а мы и соврать-
то своим умом не умеем! Ты мне ври, да ври
по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать
по-своему – ведь это почти лучше, чем
правда по одному по-чужому; в первом
случае ты человек, а во втором ты только что
птица! Правда не уйдет, а жизнь-то
заколотить можно; примеры были. Ну, что мы
теперь? Все-то мы, все без исключения, по
части науки, развития, мышления,
изобретений, идеалов, желаний, либерализма,
рассудка, опыта и всего, всего, всего, всего,
всего, еще в первом предуготовительном
классе гимназии сидим! Понравилось чужим
умом пробавляться – въелись! Так ли? Так ли
я говорю? – кричал Разумихин, потрясая и
сжимая руки обеих дам, – так ли?
– О боже мой, я не знаю, – проговорила
бедная Пульхерия Александровна.
– Так, так… хоть я и не во всем с вами
согласна, – серьезно прибавила Авдотья
Романовна и тут же вскрикнула, до того
больно на этот раз стиснул он ей руку.
– Так? Вы говорите, так? Ну так после этого
вы… вы… – закричал он в восторге, – вы
источник доброты, чистоты, разума и…
совершенства! Дайте вашу руку, дайте… вы
тоже дайте вашу, я хочу поцеловать ваши
руки здесь, сейчас, на коленах!
И он стал на колени середи тротуара, к
счастью на этот раз пустынного.
– Перестаньте, прошу вас, что вы делаете? –
вскричала встревоженная до крайности
Пульхерия Александровна.
– Встаньте, встаньте! – смеялась и
тревожилась тоже Дуня.
– Ни за что, прежде чем не дадите рук! Вот
так, и довольно, и встал, и пойдемте! Я
несчастный олух, я вас недостоин, и пьян, и
стыжусь… Любить я вас недостоин, но
преклоняться пред вами – это обязанность
каждого, если только он не совершенный скот!
Я и преклонился. – Вот и ваши нумера, и уж
тем одним прав Родион, что давеча вашего
Петра Петровича выгнал! Как он смел вас в
такие нумера поместить! Это скандал! Знаете
ли, кого сюда пускают? А ведь вы невеста! Вы
невеста, да? Ну так я вам скажу, что ваш
жених подлец после этого!
– Послушайте, господин Разумихин, вы
забыли… – начала было Пульхерия
Александровна.
– Да, да, вы правы, я забылся, стыжусь! –
спохватился Разумихин, – но… но… вы не
можете на меня сердиться за то, что я так
говорю! Потому я искренно говорю, а не
оттого, что… гм! это было бы подло; одним
словом, не оттого, что я в вас… гм! ну, так и
быть, не надо, не скажу отчего, не смею!.. А
мы все давеча поняли, как он вошел, что этот
человек не нашего общества. Не потому, что
он вошел завитой у парикмахера, не потому,
что он свой ум спешил выставлять, а потому,
что он соглядатай и спекулянт; потому что он
жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он
умен? Нет, он дурак, дурак! Ну, пара ли он
вам? О боже мой! Видите, барыни, –
остановился он вдруг, уже поднимаясь на
лестницу в нумера, – хоть они у меня там все
пьяные, но зато все честные, и хоть мы и
врем, потому ведь и я тоже вру, да довремся
же, наконец, и до правды, потому что на
благородной дороге стоим, а Петр Петрович…
не на благородной дороге стоит. Я хотя их
сейчас и ругал ругательски, но я ведь их всех
уважаю; даже Заметова хоть не уважаю, так
люблю, потому – щенок! Даже этого скота
Зосимова, потому – честен и дело знает… Но
довольно, все сказано и прощено. Прощено?
Так ли? Ну, пойдемте. Знаю я этот коридор,
бывал; вот тут, в третьем нумере, был
скандал… Ну, где вы здесь? Который нумер?
Восьмой? Ну, так на ночь запритесь, никого не
пускайте. Через четверть часа ворочусь с
известием, а потом еще через полчаса с
Зосимовым, увидите! Прощайте, бегу!
– Боже мой, Дунечка, что это будет? –
сказала Пульхерия Александровна, тревожно и
пугливо обращаясь к дочери.
– Успокойтесь, маменька, – отвечала Дуня,
снимая с себя шляпку и мантильку, – нам сам
бог послал этого господина, хоть он и прямо с
какой-то попойки. На него можно положиться,
уверяю вас. И все, что он уже сделал для
брата…
– Ах, Дунечка, бог его знает, придет ли! И как
я могла решиться оставить Родю!.. И совсем,
совсем не так воображала его найти! Как он
был суров, точно он нам не рад…
Слезы показались на глазах ее.
– Нет, это не так, маменька. Вы не
вгляделись, вы все плакали. Он очень
расстроен от большой болезни, – вот всему и
причина.
– Ах, эта болезнь! Что-то будет, что-то будет!
И как он говорил с тобою, Дуня! – сказала
мать, робко заглядывая в глаза дочери, чтобы
прочитать всю ее мысль и уже вполовину
утешенная тем, что Дуня же и защищает
Родю, а стало быть, простила его. – Я
уверена, что он завтра одумается, –
прибавила она, выпытывая до конца.
– А я так уверена, что он и завтра будет то же
говорить… об этом, – отрезала Авдотья
Романовна и уж, конечно, это была загвоздка,
потому что тут был пункт, о котором
Пульхерия Александровна слишком боялась
теперь заговаривать. Дуня подошла и
поцеловала мать. Та крепко молча обняла ее.
Затем села в тревожном ожидании
возвращения Разумихина и робко стала
следить за дочерью, которая, скрестив руки, и
тоже в ожидании, стала ходить взад и вперед
по комнате, раздумывая про себя. Такая
ходьба из угла в угол, в раздумье, была
обыкновенною привычкою Авдотьи
Романовны, и мать всегда как-то боялась
нарушать в такое время ее задумчивость.
Разумихин, разумеется, был смешон с своею
внезапною, спьяну загоревшеюся страстью к
Авдотье Романовне; но, посмотрев на Авдотью
Романовну, особенно теперь, когда она ходила,
скрестив руки, по комнате, грустная и
задумчивая, может быть, многие извинили бы
его, не говоря уже об эксцентрическом его
состоянии. Авдотья Романовна была
замечательно хороша собою – высокая,
удивительно стройная, сильная,
самоуверенная, – что высказывалось во
всяком жесте ее и что, впрочем, нисколько не
отнимало у ее движений мягкости и
грациозности. Лицом она была похожа на
брата, но ее даже можно было назвать
красавицей. Волосы у нее были темно-русые,
немного светлей, чем у брата; глаза почти
черные, сверкающие, гордые и в то же время
иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она
была бледна, но не болезненно бледна; лицо
ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у ней
был немного мал, нижняя же губка, свежая и
алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с
подбородком, – единственная неправильность
в этом прекрасном лице, но придававшая ему
особенную характерность и, между прочим,
как будто надменность. Выражение лица ее
всегда было более серьезное, чем веселое,
вдумчивое; зато как же шла улыбка к этому
лицу, как же шел к ней смех, веселый,
молодой, беззаветный! Понятно, что горячий,
откровенный, простоватый, честный, сильный,
как богатырь, и пьяный Разумихин, никогда не
видавший ничего подобного, с первого взгляда
потерял голову. К тому же случай, как
нарочно, в первый раз показал ему Дуню в
прекрасный момент любви и радости свидания
с братом. Он видел потом, как дрогнула у ней
в негодовании нижняя губка в ответ на
дерзкие и неблагодарно-жестокие приказания
брата, – и не мог устоять.
Он, впрочем, правду сказал, когда проврался
давеча спьяну на лестнице, что
эксцентрическая хозяйка Раскольникова,
Прасковья Павловна, приревнует его не только
к Авдотье Романовне, но, пожалуй, и к самой
Пульхерии Александровне. Несмотря на то, что
Пульхерии Александровне было уже сорок три
года, лицо ее все еще сохраняло в себе
остатки прежней красоты, и к тому же она
казалась гораздо моложе своих лет, что
бывает почти всегда с женщинами,
сохранившими ясность духа, свежесть
впечатлений и честный, чистый жар сердца до
старости. Скажем в скобках, что сохранить все
это есть единственное средство не потерять
красоты своей даже в старости. Волосы ее уже
начинали седеть и редеть, маленькие лучистые
морщинки уже давно появились около глаз,
щеки впали и высохли от заботы и горя, и
все-таки это лицо было прекрасно. Это был
портрет Дунечкинова лица, только двадцать
лет спустя, да кроме еще выражения нижней
губки, которая у ней не выдавалась вперед.
Пульхерия Александровна была чувствительна,
впрочем не до приторности, робка и уступчива,
но до известной черты: она многое могла
уступить, на многое могла согласиться, даже
из того, что противоречило ее убеждению, но
всегда была такая черта честности, правил и
крайних убеждений, за которую никакие
обстоятельства не могли заставить ее
переступить.
Ровно через двадцать минут по уходе
Разумихина раздались два не громкие, но
поспешные удара в дверь; он воротился.
– Не войду, некогда! – заторопился он, когда
отворили дверь, – спит во всю ивановскую,
отлично, спокойно, и дай бог, чтобы часов
десять проспал. У него Настасья; велел не
выходить до меня. Теперь притащу Зосимова,
он вам отрапортует, а затем и вы на боковую;
изморились, я вижу, донельзя.
И он пустился от них по коридору.
– Какой расторопный и… преданный молодой
человек! – воскликнула чрезвычайно
обрадованная Пульхерия Александровна.
– Кажется, славная личность! – с некоторым
жаром ответила Авдотья Романовна, начиная
опять ходить взад и вперед по комнате.
Почти через час раздались шаги в коридоре и
другой стук в дверь. Обе женщины ждали, на
этот раз вполне веруя обещанию Разумихина;
и действительно, он успел притащить
Зосимова. Зосимов тотчас же согласился
бросить пир и идти посмотреть на
Раскольникова, но к дамам пошел нехотя и с
большою недоверчивостью, не доверяя
пьяному Разумихину. Но самолюбие его было
тотчас же успокоено и даже польщено: он
понял, что его действительно ждали, как
оракула. Он просидел ровно десять минут и
совершенно успел убедить и успокоить
Пульхерию Александровну. Говорил он с
необыкновенным участием, но сдержанно и
как-то усиленно серьезно, совершенно как
двадцатисемилетний доктор на важной
консультации, и ни единым словом не
уклонился от предмета и не обнаружил ни
малейшего желания войти в более личные и
частные отношения с обеими дамами.
Заметив еще при входе, как ослепительно
хороша собою Авдотья Романовна, он тотчас
же постарался даже не примечать ее вовсе, во
все время визита, и обращался единственно к
Пульхерии Александровне. Все это доставляло
ему чрезвычайное внутреннее удовлетворение.
Собственно о больном он выразился, что
находит его в настоящую минуту в весьма
удовлетворительном состоянии. По
наблюдениям же его, болезнь пациента, кроме
дурной материальной обстановки последних
месяцев жизни, имеет еще некоторые
нравственные причины, «есть, так сказать,
продукт многих сложных нравственных и
материальных влияний, тревог, опасений,
забот, некоторых идей… и прочего». Заметив
вскользь, что Авдотья Романовна стала
особенно внимательно вслушиваться, Зосимов
несколько более распространился на эту тему.
На тревожный же и робкий вопрос Пульхерии
Александровны, насчет «будто бы некоторых
подозрений в помешательстве», он отвечал с
спокойною и откровенною усмешкой, что
слова его слишком преувеличены; что,
конечно, в больном заметна какая-то
неподвижная мысль, что-то обличающее
мономанию, – так как он, Зосимов, особенно
следит теперь за этим чрезвычайно
интересным отделом медицины, – но ведь
надо же вспомнить, что почти вплоть до
сегодня больной был в бреду, и… и, конечно,
приезд родных его укрепит, рассеет и
подействует спасительно, – «если только
можно будет избегнуть новых особенных
потрясений», прибавил он значительно. Затем
встал, солидно и радушно откланялся,
сопровождаемый благословениями, горячею
благодарностью, мольбами и даже
протянувшеюся к нему для пожатия, без его
искания, ручкой Авдотьи Романовны, и вышел
чрезвычайно довольный своим посещением и
еще более самим собою.
– А говорить будем завтра; ложитесь, сейчас,
непременно! – скрепил Разумихин, уходя с
Зосимовым. – Завтра, как можно раньше, я у
вас с рапортом.
– Однако какая восхитительная девочка эта
Авдотья Романовна! – заметил Зосимов, чуть
не облизываясь, когда оба вышли на улицу.
– Восхитительная? Ты сказал восхитительная!
– заревел Разумихин и вдруг бросился на
Зосимова и схватил его за горло. – Если ты
когда-нибудь осмелишься… Понимаешь?
Понимаешь? – кричал он, потрясая его за
воротник и прижав к стене, – слышал?
– Да пусти, пьяный черт! – отбивался
Зосимов и потом, когда уже тот его выпустил,
посмотрел на него пристально и вдруг
покатился со смеху. Разумихин стоял перед
ним, опустив руки, в мрачном и серьезном
раздумье.
– Разумеется, я осел, – проговорил он,
мрачный, как туча, – но ведь… и ты тоже.
– Ну нет, брат, совсем не тоже. Я о глупостях
не мечтаю.
Они пошли молча, и, только подходя к
квартире Раскольникова, Разумихин, сильно
озабоченный, прервал молчание.
– Слушай, – сказал он Зосимову, – ты малый
славный, но ты, кроме всех твоих скверных
качеств, еще и потаскун, это я знаю, да еще
из грязных. Ты нервная, слабая дрянь, ты
блажной, ты зажирел и ни в чем себе отказать
не можешь, – а это уж я называю грязью,
потому что прямо доводит до грязи. Ты до
того себя разнежил, что, признаюсь, я всего
менее понимаю, как ты можешь быть при
всем этом хорошим и даже самоотверженным
лекарем. На перине спит (доктор-то!), а по
ночам встает для больного! Года через три ты
уж не будешь вставать для больного… Ну да,
черт, не в том дело, а вот в чем: ты сегодня в
хозяйкиной квартире ночуешь (насилу
уговорил ее!), а я в кухне: вот вам случай
познакомиться покороче! Не то, что ты
думаешь! Тут, брат, и тени этого нет…
– Да я вовсе и не думаю.
– Тут, брат, стыдливость, молчаливость,
застенчивость, целомудрие ожесточенное, и
при всем этом – вздохи, и тает, как воск, так
и тает! Избавь ты меня от нее, ради всех
чертей в мире! Преавенантненькая!.. Заслужу,
головой заслужу!
Зосимов захохотал пуще прежнего.
– Ишь тебя разобрало! Да зачем мне ее?
– Уверяю, заботы немного, только говори
бурду, какую хочешь, только подле сядь и
говори. К тому же ты доктор, начни лечить от
чего-нибудь. Клянусь, не раскаешься. У ней
клавикорды стоят; я ведь, ты знаешь, бренчу
маленько; у меня там одна песенка есть,
русская, настоящая: «Зальюсь слезьми
горючими…» Она настоящие любит, – ну, с
песенки и началось; а ведь ты на
фортепианах-то виртуоз, мэтр, Рубинштейн…
Уверяю, не раскаешься!
– Да что ты ей, обещаний каких надавал, что
ли? Подписку по форме? Жениться обещал,
может быть…
– Ничего, ничего, ровно ничего этого нет! Да
она и не такая совсем; к ней было Чебаров…
– Ну, так брось ее!
– Да нельзя так бросить!
– Да почему же нельзя?
– Ну да, как-то так нельзя, да и только! Тут,
брат, втягивающее начало есть.
– Так зачем же ты ее завлекал?
– Да я вовсе не завлекал, я, может, даже сам
завлечен, по глупости моей, а ей решительно
все равно будет, ты или я, только бы подле
кто-нибудь сидел и вздыхал. Тут, брат… Не
могу я это тебе выразить, тут, – ну вот ты
математику знаешь хорошо, и теперь еще
занимаешься, я знаю… ну, начни проходить ей
интегральное исчисление, ей-богу не шучу,
серьезно говорю, ей решительно все равно
будет: она будет на тебя смотреть и вздыхать,
и так целый год сряду. Я ей, между прочим,
очень долго, дня два сряду, про прусскую
палату господ говорил (потому что о чем же с
ней говорить?), – только вздыхала да прела!
О любви только не заговаривай, – застенчива
до судорог, – но и вид показывай, что отойти
не можешь, ну, и довольно. Комфортно
ужасно; совершенно как дома, – читай, сиди,
лежи, пиши… Поцеловать даже можно с
осторожностью…
– Да на что мне она?
– Эх, не могу я тебе разъяснить никак!
Видишь: вы оба совершенно друг к другу
подходите! Я и прежде о тебе думал… Ведь ты
кончишь же этим! Так не все ли тебе равно –
раньше или позже? Тут, брат, этакое перинное
начало лежит, – эх! да и не одно перинное!
Тут втягивает; тут конец свету, якорь, тихое
пристанище, пуп земли, трехрыбное основание
мира, эссенция блинов, жирных кулебяк,
вечернего самовара, тихих воздыханий и
теплых кацавеек, натопленных лежанок, – ну,
вот точно ты умер, а в то же время и жив, обе
выгоды разом! Ну, брат, черт, заврался, пора
спать! Слушай: я ночью иногда просыпаюсь,
ну, и схожу к нему посмотреть. Только ничего,
вздор, все хорошо. Не тревожься и ты
особенно, а если хочешь, сходи тоже разик. Но
чуть что приметишь, бред, например, али жар,
али что, тотчас же разбуди меня. Впрочем,
быть не может…