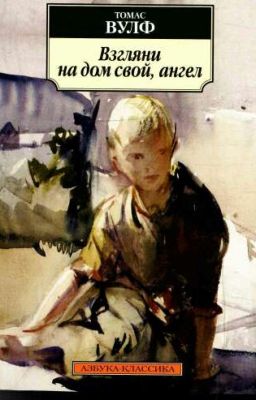23
Enteuuev ede laugei staumous treis parasangas pentekaideka epi tou Eufrates patamon.[15]
Он не рассказал Леонардам, что работает по утрам. Он знал, что они будут возражать против этого и что их возражения воплотятся в победоносном доводе сниженных баллов. Кроме того, он знал, что Маргарет Леонард будет зловеще говорить о подорванном здоровье, об ущербе, наносимом надеждам грядущих лет, о потерянных часах сладкого утреннего сна, которые ничем нельзя возместить. На самом деле он стал теперь гораздо крепче, чем был раньше. Он стал тяжелее и сильнее. Но иногда он томительно хотел спать. К полудню голова у него становилась тупой и свинцовой, потом он приободрялся, но после восьми часов ему уже никак не удавалось заставить свой сонный мозг сосредоточиться на книге.
Дисциплине он не научился вовсе. Под опекой Леонардов он даже проникся к ней романтическим презрением. Маргарет Леонард обладала удивительной способностью великих людей — видеть сущность. Доминантный цвет она видела всегда, но не всегда замечала оттенки. Ей была свойственна вдохновенная сентиментальность. Она считала, что «знает мальчиков», и гордилась тем, что знает их. На самом же деле она не знала о них почти ничего. Она ужаснулась бы, если бы ей открылся дикий душевный хаос подростка, сексуальные кошмары наступающей половой зрелости, тоска, страх, стыд, томящие мальчика в темном мире его желания. Она не знала, что каждый мальчик за решеткой страха, запрещающего ему исповедаться, кажется себе чудовищем.
Этого знания у нее не было. Но ей была дана мудрость. Она сразу же видела, чего стоит каждый человек. Мальчики были ее героями, ее маленькими божками. Она верила, что грехи мира будут искуплены и жизнь спасена одним из них. Она видела огонь, горящий в каждом из них, и бережно его хранила. Она искала доступа к слепым поискам света и самовыражения и у тех, кто был туп, тугодумен, скован стыдом. Она говорила дрожащему скаковому коню тихие ласковые слова, и он успокаивался.
Вот почему он не исповедовался ей. Он все еще был заперт в темнице. Но он всегда тянулся к Маргарет Леонард, как к свету, — она видела отблески адского огня, отплясывающие танец мечей на его лице, она видела его голод и муку и кормила его (о, величественнейшее преступление!) поэзией.
Там, где страх или стыд замыкали их в осторожном молчании, там, где чопорные требования обычая связывали им язык, они находили освобождение в многозначной символике стихов. И это означало, что Маргарет была потеряна для добрых ангелов. Ибо какое дело посланцам Сатаны до мелочной точности буквы и слова, если мы можем похитить у поющего хора земного методизма хотя бы одно-единственное сердце — вознести одну великую, заостренную пламенем погибшую душу к высочайшей греховности поэзии?
Вино виноградных гроздьев никогда не оскверняло ее рта, но вино поэзии было неугасимо смешано с ее кровью, замуровано в ее плоти.
К пятнадцати годам Юджин знал почти всех крупнейших лирических поэтов, писавших по-английски. Он владел всеми их живыми богатствами до последней строки, не ограничиваясь горсткой разрозненных цитат. Его жажда была пьяной, неутолимой; к своим сокровищам он добавил целые сцены из шиллеровского «Вильгельма Телля», которого самостоятельно читал по-немецки, стихи Гейне и несколько народных песен. Он выучил наизусть целый отрывок из «Анабасиса», в котором напряженно нарастающий победоносный греческий язык живописал ту минуту, когда измученные голодом остатки Десяти Тысяч наконец достигли моря и испустили свой бессмертный клич, называя его по имени. Кроме того, он выучил несколько звонких пошлостей Цицерона, за их звучание, и отрывки из Цезаря, сухие и мускулистые.
Великие стихотворения Бернса он знал потому, что они были положены на музыку, потому, что он читал их или слышал, как их декламировал Гант. Однако «Тэма О'Шентера» ему прочла Маргарет Леонард, и ее глаза блестели смехом, когда она читала:
— «В аду тебя поджарят, как селедку».
Некоторые вордсвортовские стихотворения покороче он читал еще в начальной школе. «Стучит мое сердце», «Я шел, как облако, один» и «Взгляните, одна-одинешенька в поле» он помнил еще с тех самых пор, но Маргарет прочла ему сонеты и заставила выучить наизусть «Нам слишком дорог мир». Ее голос дрожал и становился низким и страстным, когда она читала эти строки.
Он знал наизусть все песни в шекспировских пьесах, но особенно потрясали его две: «Где ты, милая, блуждаешь», которая отдавалась в его сердце далеким отзвуком рога, и великолепная песня из «Цимбелина» — «Для тебя не страшен зной». Он попытался прочесть все сонеты, и не смог, потому что их сложная насыщенность оказалась слишком трудной для его малого опыта, но он прочел и забыл примерно половину их, и навсегда запомнил те немногие, которые, непонятно почему, сразу же вспыхивали для него на странице, подобно светильникам.
Это были: «Когда читаю в свитках мертвых лет», «Ты не меняешься с теченьем лет», «Мешать соединенью двух сердец», «Издержки духа и стыда растрата», «Когда на суд безмолвных, тайных дум», «Сравню ли с летним днем твои черты?», «Нас разлучил апрель цветущий, бурный» и «То время года видишь ты во мне» — самый великий из них всех, который открыла ему Маргарет и который пронизал его таким электрическим током восторга, когда он дошел до «На хорах, где умолк веселый свист», что он с трудом смог дочитать сонет до конца.
Он прочел все пьесы, кроме «Тимона», «Тита Андроника», «Перикла», «Кориолана» и «Короля Иоанна», но захватил его только «Король Лир» — с начала и до самого конца. Наиболее известные монологи он знал с раннего детства, потому что их постоянно декламировал Гант, и теперь они были ему скучны. А многословные остроты шутов, над которыми Маргарет законопослушно смеялась, объявляя их образчиками бичующей сатиры гения, ему смутно казались очень тупыми. Юмор Шекспира не внушал ему доверия — его Оселки были дураками не только напыщенными, но к тому же еще и скучными.
«Что до меня, то я скорей готов выносить вашу слабость, чем носить вас самих. Хотя, пожалуй, если бы я вас нес, груз был бы не очень велик, потому что, думается мне, в кошельке у вас нет ни гроша».
Такое острословие самым неприятным образом напоминало ему Пентлендов. Только Шута в «Лире» он считал восхитительным — печального, трагического, таинственного Шута. А что до остальных, он занимался тем, что сочинял на них пародии, которые, заверял он себя с дьявольской усмешкой, заставят потомство надорвать животики: «Да, дядюшка, если бы страстной четверг пришелся на прошлую среду, я бы окаплунил твоего петуха, как сказал Том О'Лудгет пастуху, когда увидел, что пастушьи сумки отцвели. Ты лаешь в две глотки, Цербер? Лежать, пес, лежать!»
Признанные красоты его редко трогали (может быть, потому, что он постоянно их слышал), а кроме того, ему казалось, что Шекспир часто выражался нелепо и напыщенно там, где простота была бы гораздо уместнее, — например, в той сцене, когда Лаэрт, узнав от королевы, что его сестра утонула, произносит:
Офелия, тебе довольно влаги,
И слезы я сдержу.
Нет, это неподражаемо (думал он). Да-да, Бен! Лучше бы он вычеркнул их сотню. Тысячу!
Но его завораживали другие монологи, которые декламаторы не замечают, — такие, как страшный и потрясающий призыв Эдмонда в «Короле Лире», весь пропитанный порочностью, который начинается словами:
Природа, ты — моя богиня, —
— и кончается:
Заступниками будьте, боги,
Всем незаконным сыновьям.
Монолог этот был темен, как ночь, порочен, как Негритянский квартал, необъятен, как стихийные ветры, которые завывали в горах, — он декламировал его в черные часы своего труда темноте и ветру. Он понимал этот монолог, он наслаждался его злобой, ибо это была злоба земли, злоба незаконной природы. Это был призыв к изгоям, клич, обращенный к тем, кто за оградой, к мятежным ангелам и ко всем людям, которые слишком высоки ростом.
Елизаветинская драма, помимо произведений Шекспира, была ему неизвестна. Но он очень скоро познакомился с прозой Бена Джонсона, на которого Маргарет смотрела, как на литературного Фальстафа, со снисходительностью школьной учительницы извиняя его раблезианские эксцессы, как простительные причуды гения.
Литературная вакханалия будила в ней несколько академическую веселость — так преподаватель в баптистском колледже аппетитно причмокивает и благодушно сияет улыбками на своих студентов, когда читает о хересе, о портере и о кружках, пенящихся душистым элем. Все это входит в традиции либерализма. Широкообразованные люди всегда терпимы. Живое свидетельство тому — профессор Чикагского университета Альберт Торндайк Феркинс в «Соколе» в Сохо. Мужественно улыбаясь, он сидит за полупинтой горького пива в обществе мелкого жулика, кривобокой буфетчицы с широким задом и съемными зубами и трех компанейских проституток с Лайл-стрит, которые лихо расправляются с двумя пинтами темного пива. С живым нетерпением он ожидает появления Г. К. Честертона и Э. В. Льюкаса.
— О, неповторимый Бен Джонсон, — с мягким смехом вздохнула Маргарет Леонард. — О господи!
— Боже мой, мальчик, — взревела Шеба, на лету подхватывая предложенную тему разговора и шумно облизывая выпачканные маслом пальцы перед тем, как ринуться в бой. — Да благословит его бог! — Ее волосатое красное лицо пылало, как мак, глаза в красных прожилках слезно блестели. — Да благословит его бог, Джин! Он был насквозь английским, как ростбиф и кружка душистого эля!
— О господи! — вздохнула Маргарет. — Он был истинным гением. — Затуманенными глазами она смотрела вдаль, а на ее губах дергалась ниточка смеха.
— У-и-и! — мягко засмеялась она. — Старина Бен!
— И послушай, Джин, — продолжала Шеба и наклонилась вперед, упершись толстой ладонью в колено. — Ты знаешь, что величайшая дань уважения гению Шекспира вышла из-под его пера?
— Да, мальчик! — сказала Маргарет. Ее глаза потемнели, голос стал чуть хриплым. Он боялся, что она расплачется.
— И все же эти дураки, — вопила Шеба, — подлые, слабоумные, хлебающие помои дураки…
— У-и-и! — мягко стонала Маргарет. Джон Дорси повернул свое меловое лицо к мальчику и заржал с бессмысленным одобрением. О, так рассеянно!
— …они ведь все такие — имеют наглость утверждать, что он ему завидовал!
— Пф! — нетерпеливо сказала Маргарет. — Это все вздор.
— Они сами не знают, что говорят! — Шеба повернула к нему внезапно заулыбавшееся лицо. — Наглые выскочки! А мы должны им объяснять, Джин! — сказала она.
Он начал потихоньку соскальзывать с плетеного кресла на пол. Джон Дорси хлопнул себя по толстому бедру и наклонился вперед с самопроизвольным ржанием, брызгая слюной.
— Господи помилуй! — пропыхтел он, задыхаясь.
— Я на днях разговаривала с одним субъектом, — сказала Шеба, — с адвокатом, которому полагалось бы что-то знать, и я процитировала строку из «Венецианского купца», известную любому школьнику: «Не надо милосердье принуждать». Он поглядел на меня так, словно решил, что я сумасшедшая.
— Боже великий! — сказала Маргарет застывшим голосом.
— Я сказала, послушайте, мистер Имярек, может, вы и ловкий адвокат, может, у вас и правда есть миллион долларов, как все говорят, но вы еще многого и многого не знаете. Есть множество вещей, которых нельзя купить за деньги, сынок, и одна из них — это общество культурных мужчин и женщин.
— Пф! — сказал мистер Леонард. — Что эти сморчки знают о духовных ценностях? С тем же успехом можно потребовать от какого-нибудь чернокожего батрака, чтобы он перевел строфу Гомера. — Меловыми пальцами он схватил со стола стакан с простоквашей и, сосредоточенно наклонив его, подцепил ложечкой большой трепещущий кусок и отправил его в рот. — Нет, сэр, — засмеялся он. — Возможно, в налоговых книгах они и Большие Люди, но когда они пытаются, как говорится, водить знакомство с культурными мужчинами и женщинами, они… они… — он начал ржать, — они — пустое место, и больше ничего.
— Что человеку приобрести весь мир, — сказала Шеба, — если он потеряет…
— О господи! — вздохнула Маргарет, покачивая дымно-темными глазами. — Ну, скажу я вам!
И она сказала ему. Она сказала ему, как глубоко Лебедь Эйвона знал человеческое сердце, какие полнокровные и разнообразные характеры он создавал, каким колоссальным обладал юмором.
— «Сражался добрый час по шрусберийским часам!» — Она засмеялась. — Толстый плут! Только представь себе: мужчина следит за временем!
И дальше, убедительно:
— Так было принято в ту эпоху, Джин. И когда ты прочтешь пьесы его современников, ты убедишься, насколько чище их всех он был.
Но она постоянно пропускала то слово, то строку. Чуть-чуть пятнистый Лебедь Эйвона — слегка запачканный эпохой. Ну и, кроме того, Библия.
Дымные огарки времени. «Парнас — вид с горы Синай» — лекция с волшебным фонарем профессора пресвитерианского колледжа Мактевиша (доктора богословия).
— И заметь, Юджин, — сказала она, — он нигде не называет порок привлекательным.
— Но почему же? — спросил он. — А Фальстаф?
— Да, — ответила она. — И ты знаешь, что с ним случилось, не так ли?
— Ну, — задумался он, — он умер.
— Вот видишь! — закончила она с торжествующим предостережением.
— Вижу ли я? Воздаяние за грехи. А кстати, каково воздаяние за добродетель? Лучшие умирают молодыми.
У-у-у! У-у-у! У-у-у!
Попал я в беду!
Я предавался пороку,
И вот умираю до сроку —
На восьмидесятом году!
— И еще заметь, — сказала она, — характеры его персонажей никогда не бывают застывшими. Ты все время видишь их в процессе роста. Ни один не остается в конце таким, каким он был в начале.
В начале было слово. Я — Альфа и Омега. Лир в процессе роста. Он стал старым и сумасшедшим. Результат процесса роста.
Этой мелкой критической разменной монеты она набралась из лекций в колледже и из книг. Все эти клише были — и, возможно, остаются — частью гладенького жаргона педантов. Но ей они настоящего вреда не причинили. Это было просто то, что говорят люди. Она виновато чувствовала себя обязанной украшать свои объяснения этой мишурой — она боялась, что сама она дает недостаточно. А давала она всего только чувство, которое было настолько верным, настолько безошибочным, что она так же не могла бы плохо прочесть великие стихи, как плохие — хорошо. У нее был голос, взысканный богом. Она была свирелью демонического экстаза. Она была одержимой — она не знала, в чем это заключалось, но знала, когда наступал миг одержимости. Поющие языки всего мира вновь оживали в заклинаниях ее голоса. Она была вдохновенна. Она была истрачена.
Она проходила через их замкнутую и запертую мальчишескую жизнь прямым и неуклонным путем стихийного духа. Она открывала их сердца, как медальоны. Они говорили: «Миссис Леонард — очень хорошая женщина».
Он знал некоторые стихотворения Бена Джонсона, включая прекрасный «Гимн Диане» — охотнице-царице, целомудренно-прекрасной, и великую дань уважения Шекспиру, которая подымала дыбом его волосы строками:
…но призови гремящего Эсхила,
Софокла с Еврипидом к нам… —
— и брала за горло строками:
Он сын был тех веков, не этих лет,
И Муз еще не миновал расцвет…
Элегия маленькому Салатиэлю Пейви, ребенку-актеру, была медом из львиной пасти. Но она была слишком длинна.
Геррика, помеченного печатью колена Бенова, он знал гораздо лучше. Эта поэзия пела изнутри. Она была, как он думал позднее, самым совершенным и верным лирическим голосом в английском языке — чистая, нежная, негромкая, недрожащая нота. Эта поэзия творилась с несравненной легкостью, как творят вдохновенные дети. Молодые поэты и поэтессы нашего века пытались уловить ее, как они пытались уловить секрет Блейка и — более успешно — Донна.
Я, дитя, господь, к тебе
Руки возношу в мольбе…
Выше этого не могло быть ничего — ничто не могло бы превзойти эту поэзию точностью, изяществом и целостностью.
Их имена сыпались звонкими музыкальными птичьими трелями в веснушчатом солнечном свете юного мира — он с пророческой тоской перебирал нежные утраченные птичьи песенки их имен, зная, что они никогда уже не вернутся. Геррик, Крешо, Керью, Саклинг, Кэмпьон, Ловлас, Деккер. О, сладостная безмятежность, о, сладостная, о, сладостная безмятежность!
Он читал романы полку за полкой — всего Теккерея, рассказы По и Готорна, «Ому» и «Тайпи» Германа Мелвилла, которые нашел у Ганта. Про «Моби Дика» он не слышал. Он прочел полдесятка романов Купера, всего Марка Твена, но не сумел добраться до конца ни одной книги Хоуэллса или Джеймса. Он перечитал десяток романов Вальтера Скотта, и больше всего ему понравился «Квентин Дорвард», потому что описания пиршеств там были на редкость обильными и аппетитными.
Когда ему было четырнадцать лет, Элиза снова уехала во Флориду и оставила его пансионером у Леонардов. Хелен со все возрастающей усталостью и страхом странствовала по большим городам Востока и Среднего Запада. Несколько недель она пела в маленьком балтиморском кабаре, потом перебралась в Филадельфию, где барабанила модные песенки на разбитом пианино в музыкальном отделе дешевого магазина, трудолюбиво высовывая язык, когда приходилось разбирать незнакомый аккомпанемент.
Гант регулярно писал ей два раза в неделю — унылый, но подробный журнал его существования. Иногда он вкладывал в письма небольшие чеки, которые она прятала, не кассируя.
«Твоя мать, — писал он, — снова отправилась во Флориду гоняться за журавлями в небе, оставив меня тут одного разделываться со всеми неприятностями, мерзнуть и умирать с голоду. Одному богу известно, что с нами всеми станется к концу этой страшной, адской и проклятой зимы, но я предсказываю богадельню и благотворительный супчик, как было в президентство Кливленда. Когда к власти приходят демократы, можешь сразу туже затягивать ремень. В банках нет денег, люди сидят без работы. Помяни мое слово, кончится тем, что все пойдет с молотка в карман сборщика налогов. Сегодня утром температура была тринадцать градусов ниже нуля, а уголь теперь подорожал на семьдесят пять центов за тонну. Солнечный Юг! Не накидывайтесь на траву, сказал Билл Най. Господи Иисусе! Вчера я проходил мимо „Южной топливной компании“ и видел в окне старика Вагнера, который со злорадной улыбкой смотрел на страдания вдов и сирот. Что ему за дело, даже если все они замерзнут! Боб Грейди упал мертвым во вторник утром, когда выходил из Гражданского банка. Я был знаком с ним двадцать пять лет. Он ни разу в жизни не болел. Все, все ушло, все прежние знакомые лица. Следующим будет старик Гант. После отъезда твоей матери я столуюсь у миссис Сейлс. Ты в жизни не видела такого стола, какой она держит, — масса фруктов, сложенных пирамидами, маринованные сливы, персики и всякие варенья, большие куски жареной свинины, говядины, молодого барашка, холодная ветчина и язык и всяческие овощи в изобилии, которое не поддается описанию. Как, во имя всего святого, она умудряется кормить всем этим за тридцать пять центов, я просто не понимаю. Юджин пока живет у Леонардов. Раза два в неделю я беру его с собой к Сейлсам подкормить. Они сильно мрачнеют, когда видят приближение этих длинных ног. Одному богу известно, куда ом все это упихивает, — ест он за троих. Наверное, в школе его кормят не очень сытно. Вид у него гантовский — тощий и голодный. Бедный мальчик. У него больше нет матери. Я буду делать для него все, что смогу, пока не наступит крах. Леонард приходит каждую неделю хвастать им. Он говорит, что равного ему нигде не найти. Весь город о нем знает. Престон Карр (он наверняка будет следующим губернатором) на днях разговаривал со мной про него. Он советует, чтобы я послал его на юридический факультет университета штата, где он на всю жизнь завяжет дружбу с людьми из его собственного штата, и чтобы потом я помог ему сделать первые шаги на политическом поприще. И то верно — надо бы. Я намерен дать ему хорошее образование, а остальное зависит от него самого. Возможно, он прославит свое имя. Ты же его еще не видела после того, как он начал носить длинные штаны. Его мать купила ему очень красивый костюм на рождественской распродаже у Моула. На рождество он уехал к Дейзи и там надел его в первый раз. Я купил ему пару дешевых брюк у Рэкета на каждый день. А хорошие пусть побережет для праздников. Твоя мать сдала Старый Сарай миссис Ревелл до своего возвращения. Недавно я туда зашел, и в первый раз за мою жизнь там было тепло. Она не жалеет угля. Бена я неделями не вижу. Он возвращается домой и возится на кухне в час, в два ночи, а я встаю и ухожу задолго до того, как он проснется. От него никогда ничего не добьешься — сам он ничего не скажет, а задашь ему вежливый вопрос, так он тебя сразу обрывает. Иногда я вижу его поздно вечером в городе с миссис П. Их водой не разольешь. По-моему, она дрянь. Ну, пока все. Джона Дьюка вечером в воскресенье застрелил насмерть в отеле „Уайтстоун“ их сыщик. Он был пьян и грозился всех там перестрелять. Большое горе для его жены. После него осталось трое детей. Она сегодня заходила ко мне. Его все любили, но с пьяным с ним никакого сладу не было. Жаль ее просто до слез. Очень симпатичная женщина. Спиртное приносит больше бед, чем все остальные пороки, вместе взятые. Проклинаю день, когда оно было изобретено. Прилагаю небольшой чек — купи себе что-нибудь. Одному богу известно, к чему мы идем. Твой любящий отец У. О Гант».
Она тщательно сберегала все его письма — крупными готическими каракулями написанные его правой искалеченной рукой на толстой глянцевитой бумаге, которой он пользовался для деловой переписки.
А тем временем во Флориде Элиза рыскала по побережью: задумчиво оглядела захолустный городок Майами, нашла, что цены в Палм-Бич слишком высоки, а участки в Дайтоне слишком дороги, и в конце концов повернула в глубь материка, в Орландо, где, окруженные цепью озер и цитрусовыми деревьями, ее приближения ожидали Пентленды — Петт с холодной жаждой боя на лице, Уилл с нервической подергивающейся гримасой, тупым лезвием соскребывая с ладони шелушащиеся хлопья экземы.