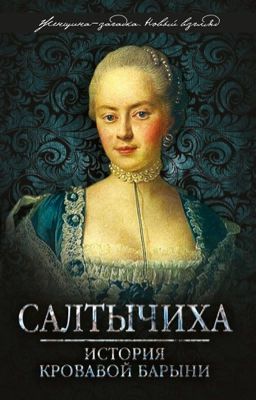Глава XV Ночное нападение
В безлунную, белесоватую зимнюю ночь, когда особенно ярко на северо-западе блестел косой четырехугольник созвездия Opиoна и когда вся ночь, невзирая на стужу, очаровывала своей тишиной и неподвижностью, из ворот дома Салтычихи, с Лубянки, осторожно выдвинулись большие, широкие сани в одну лошадь и сперва медленно, а потом быстрее двинулись по направленно к Сухаревой башне.
В санях отчетливо виднелись три сидевшие в них человеческие фигуры, из которых две помещались впереди, а одна на высоком ковровом сиденье сзади.
В ту же самую ночь, но только несколько ранее, человек в овчинном тулупе и овчинной шапке, быстро шел, почти бежал по тому же самому направлению, по которому двигались сани, и, видимо, куда-то торопился попасть вовремя.
Он и попал вовремя туда, куда шел.
Старая, лохматая дворняжка хрипло и медленно залаяла за воротами дома Панютиной, на Самотеке, когда к ней приблизился овчинный тулуп и торопливо постучал в кольцо калитки.
Калитку отперли не сразу. Сперва в доме засветился огонек, потом этот огонек начал быстро мелькать в окнах дома, а затем уже к калитке со двора кто-то медленно подошел и спросил:
– Кто стучит? Чево надоть?
– Отоприте скорее... надо... – сдержанным голосом проговорил овчинный тулуп.
– Кого надо?.. Да ты кто?.. – спрашивал неторопливо мужской сонный голос, не отпирая калитки.
– Барина надо... Николая Афанасьича...
– Да ты кто? Скажись...
– Сидорка я...
– Какой Сидорка? Чей?.. Может, лихие дела ведаешь, разбоишь?.. – допытывался сонный голос.
Сидорку озлило это:
– Сам не разбоишь ли... черт! Несуразная башка!
– А ты языком-то калитки не прошибай, – в свою очередь обиделся невольный собеседник Сидорки, – неравно оцарапаешь!
При этом голос Сидоркиного собеседника из сонного как-то вдруг превратился в добрый и отчетливый. Такова уж сила брани на русского человека – она живо расшевелит его и приободрит.
Сидорка настаивал:
– Отпирай же, говорю тебе!.. Не то беда будет! После беды не оберетесь!..
Видимо, слова эти подействовали вразумительно на несговорчивого блюстителя двора госпожи Панютиной – он начал отпирать калитку, гремя какими-то железными кольцами и при этом предупреждая:
– Я отопру... только ты смотри... у меня у самого топор! Так и шарахну, коли что, так и знай... топор у меня острый... Слышишь? Вот он...
И Сидорка в самом деле услышал лязг обо что-то деревянное.
– Да отпирай! – проговорил Сидорка нетерпеливо.
Калитка распахнулась. Отворив ее, человек, без шапки, в полушубке внакидку, остался в нескольких шагах от ворот с топором в руках. Видимо, при малейшем подозрительном движении Сидорки он готов был размозжить ему голову.
Но подозрительных движений Сидорка не делал. Он только попросил:
– Барина, поскорее барина! Не то будет поздно...
Но барин сам появился на крылечке в халате на беличьем меху. Тютчев сразу по голосу узнал Сидорку.
– Чего тебе, братец? Поди сюда.
Сидорка быстро подбежал к Тютчеву и немедленно вполголоса заговорил:
– К вам, барин, Салтычиха жалует: не то поджечь ваш дом хочет, не то убить...
Тютчев всполошился, взмахнув на Сидорку глазами.
– Что?.. Что?.. Что такое?.. – вопросил он тревожно.
– Ей-богу, правда... Так прямо сюда, к вам, и катит... С ней кучер и дворник... и топоры с собой взяли, и ножи, и пистолеты, и паклю...
– Все ты врешь, братец! – вскричал Тютчев, чувствуя, однако, что Сидорка говорит что-то похожее на правду и что от Салтычихи при ее озлоблении на него, на Тютчева, всего ожидать можно.
Человек далеко не из храбрых, Тютчев тут же чуть не растерялся, перетрусив не на шутку, и у него в голове начал делаться какой-то туман. Но тот же Сидорка надоумил его:
– Вы бы, барин, чем кричать, приготовились лучше... А я, видит бог, не вру... Народ у вас есть... Тоже за топоры да за ножи... А полицейской команды теперь не доищетесь... Да и поздно будет... Покуда вы за командой пошлете, она успеет весь ваш дом разнести... Вот истинный Бог!..
– Справедливо, весьма справедливо! – согласился с ним Тютчев, мало что соображая, но тут же, однако, распорядился: – Кирилл! Ворота на запор! Скажи Максиму, чтоб взял топор... разбуди и его... Да возьми топор и сам...
– Уж он у меня есть, – отозвался Кирилл, тот самый мужик, который отпер Сидорке калитку.
– Хорошо... держи его наготове... – продолжал возбужденно Тютчев. – А самое главное – ворота на запор... да покрепче... да самим не дремать... чтоб в оба глаза...
– Ладно! – произнес Кирилл и немедленно завозился у калитки, что-то передвигая и что-то усердно дергая своими здоровенными ручищами.
– Постой, постой! – всполошился Сидорка. – А меня-то куда ж? Ведь мне домой бежать надо, а то меня Салтычиха сегодня ж в ночь в могилу вгонит: так прямо в могилу и ложись. Выпустите меня-то, барин, мне домой надо.
– Справедливо, весьма справедливо, – снова согласился Тютчев, – ты можешь бежать, братец. А ежели все тобою донесенное справедливо, я тебя и сам награжу, и сообщу о том по начальству. Тебя начальство не забудет.
– Много благодарны, сударь, – поклонился Сидорка, сняв шапку. – Всегда на вашу милость в надежде...
Сидорка был уже за воротами, и ворота дома Панютиной были уже на крепком запоре, охраняемые двумя мужиками, Кириллом и Максимом, когда в некотором отдалении от дома, на берегу Самотекского пруда, остановились сани Салтычихи.
Сидорка, тут же спрятавшийся за углом какого-то дома, видел, как из саней вылезли Аким и Анфим, и слышал отчетливо сказанные слова Салтычихой:
– Да не жалеть пакли-то, молодцы, побольше под крышу-то. А коли что – и ножи в ход... Я тут пообожду малость.
Аким пробурчал что-то в ответ, чего Сидорка не расслышал, хотя и чутко прислушивался, и оба приспешника Салтычихи осторожно, стороной, у заборов начали пробираться в гору от пруда к дому Панютиной.
«Пошли наши волки трясти лошадиные холки, – начал сам с собой рассуждать Сидорка, наблюдая за удалявшимися фигурами Акима и Анфима. – Только поздновато будет! Волков и примут по-волчьи, тоже гостинчик готов. Недарма же я взбулгачил барина. Перепалка будет!»
И Сидорка радовался своему делу, то есть тому, что вовремя предупредил о грозящей опасности Тютчева.
На это у Сидорки были свои причины, о которых он долго думал и раскидывал своим умом-разумом.
Неглупый от природы малый, даже по-своему и весьма умный и весьма рассудительный, Сидорка давно уже решил, что самое лучшее, что он может придумать, это влиять на свою барыню через других и тем добиться того, чего желали и лично он, и все дворовые Салтычихи. У него явился какой-то род личной ненависти к барыне, и ему всеми силами хотелось добиться ее гибели, хотя он почти и не верил в эту возможность, соразмеряя грозные силы Салтычихи и свои ничтожные мужицкие.
Во всем этом почему-то главную роль играла любовь Сидорки к Галине, хотя любви его никто не препятствовал, не исключая и самой Салтычихи, не знавшей о ней ничего, и Галина отвечала ему своей самой искренней девичьей взаимностью. Но Сидорке казалось почему-то, что его счастью всегда будет преграда в лице Салтычихи, и этот взгляд особенно усилился в нем с тех пор, как Салтычиха приблизила к себе Галину, сделав ее своей любимицей.
«Отобьет она у меня Гальку, – не раз задумывался он, – зазнается Галька, зафордыбачит она – и тогда прощай, Сидорка, лихая голова твоя, не увидишь ты Гальки как ушей своих...»
А лихой парень слишком уж был привязан к девушке, чтобы потерять ее так запросто.
«Буду мутить всех!» – решил как-то Сидорка, долго и упорно ворочаясь в одну глухую ночь на своей жесткой постели, и принялся за свое дело.
С этой целью он как умел возбуждал дворовых, распускал при всяком удобном случае везде и всюду самые невероятные, даже нелепые слухи про Салтычиху, в особенности же настраивал против Салтычихи свою возлюбленную, которая, как влюбленная, невольно стала как-то глядеть на все глазами любимого человека. Он же, Сидорка, подучил Галину передать Салтычихе от имени Тютчева и то, чего тот и не думал никогда отвечать Салтычихе на ее письмо. Расчет Сидорки оказался верным: Салтычиха взбеленилась и решилась на то, зачем она теперь и приехала на Самотеку, к дому Панютиной. У Сидорки при этом был еще и другой расчет. Озлившийся Тютчев, а то, может, и сама Панютина, как полагал Сидорка, подадут на Салтычиху донос по поводу поджога и грабежа, и тогда... Тут уж фантазия Сидорки принимала самые невероятные формы, и уж бог весть чего не представлял себе этот один из обыкновеннейших дворовых Салтычихи. А в конце концов всегда утешал себя: «Э, да ведь копна мыши не диво! Нет-нет да и подгрызет мышка копну-то! Копна-то наземь и грохнется, и рассыплется, и не станет копны никакой...»
Между тем та копна, которую мышка в лице Сидорки намеревалась подгрызть, сидела спокойно в санях и ожидала исполнения своего приказания.
Исполнение, однако, что-то затянулось, и мгновениями Сидорке казалось, что Салтычиха нетерпеливо ерзает по сиденью, точно собираясь соскочить с него. В эти мгновения и Сидорка чувствовал что-то такое, отчего у него приливала кровь к голове, сердце усиленно билось, а кто-то точно нашептывал ему на ухо: «Покончи... самое подходящее время... вдругорядь такого случая не выдастся... никто не увидит, никто не узнает...» Голос был слишком настойчив, слишком назойлив, и Сидорка соглашался с ним. «И то! – бормотал он чуть не вслух, сжимая что-то в руках под тулупом и в то же время сильно вздрагивая не то от холода, не то от чего-то другого. – Один конец и ей и мне... Теперь ночь, она в чужом месте... Подкрадусь сзади – полосну ножом – и все, и конец, и будет с нее, и не приeдет домой... Скажут, Аким аль Анфим немой... а я в стороне, я ни при чем... А то и разбойники, скажут... Зачем, мол, к прудам попала?.. Что надо?.. Поищут-поищут, да и бросят... А тогда я Галю за рога: стой, мол, девка, ты моя, теперь уж Салтычиха нам не помеха... распоясывай, значит, кафтан на все ремни!..»
При мысли о Гале Сидорку всего даже как-то передернуло. Тут же мгновенно приплелось и имя кучера Акима. Соперник предстал теперь перед Сидоркой во всей своей мрачной неприступности. Зачем он здесь? Зачем он пошел на такое дело? Наверное, хочет выслужиться перед Салтычихой и потом выпросить у нее за услугу Галину.
«Не отдам! не отдам!» – прошептал настойчиво и зло Сидорка, и в это время его всего с ног до головы охватил какой-то жгучий порыв, к сердцу хлынуло какое-то жгучее озлобление, и весь он дрожал, почти шатаясь, и в голове его шумело, и в глазах завертелись необыкновенно яркие огненные круги, и ему почуялось даже, что возле него запахло кровью...
Подобного чувства, подобного состояния Сидорка не испытывал никогда. Оно ошеломило его совершенно. Не помня себя, мало перед собой что видя, мало что разбирая, кроме спокойно сидевшей в санях фигуры Салтычихи, он вдруг порывисто шагнул из-за своего угла и хотел было просто бежать по направлению, где находилась в санях Салтычиха, но довольно яркий, хотя и бледно-синий свет от лежавшего грудами вокруг снега как то сразу охолодил порыв Сидорки. Он остановился даже и огляделся вокруг. Ночь была тиха, и звезды по-прежнему ярко мерцали на небе. Фигура его с короткой тенью вправо ярко выделялась среди массы снега. Из боязни, чтобы не заметила его Салтычиха, он чуть было опять не спрятался за угол и уж было шагнул назад с этой целью, но что-то как будто толкнуло его сзади, кто-то как будто устыдил его чем-то, и он со смелостью, сперва выпрямившись, потом согнувшись, медленно, но дрожащей, однако, походкой начал подкрадываться к Салтычихе сзади. Правую руку его под тулупом жгло что-то, что-то где-то царапало, что-то где-то дергало – дергало очень неловко и очень больно, – но он подкрадывался и подкрадывался, словно это было страшно необходимо, словно кто-то заставлял его двигаться неотвратимо, неизбежно.
Салтычиха по-прежнему сидела в санях спокойно и тихо, и так же тихо и спокойно было вокруг в эту зимнюю, морозную ночь, немую свидетельницу человеческих грехов и раздоров, и беспрерывных, и вечно озлобленных...