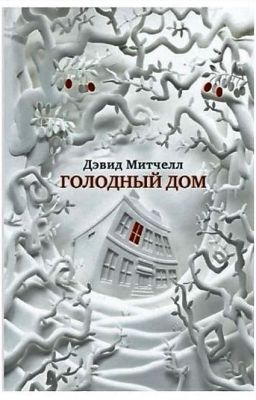20
...беззвездная, бесплотная, бесчувственная, безвременная мгла. Не знаю, как давно я здесь нахожусь. Минуты или годы. Не знаю. В какой-то момент я решила, что умерла, но рассудок жив, хотя своего тела я не ощущаю. Я молила Бога о помощи или хотя бы о лучике света, просила прощения за то, что раньше в Него не верила, старалась не думать о том, какой Он изувер и психопат в Ветхом Завете и в Откровении Иоанна Богослова. Ответа я не получила. Думала о Фрейе, о маме и о папе, никак не могла вспомнить, о чем говорила с ними в последний раз. Думала о Тодде. Если он уцелел, то сейчас ищет меня вместе с полицией, хотя этого места даже с ищейками не найдешь. Может быть, Тодд не очень рассердился на меня за то, что я отреагировала на фальшивую Ферн и пудреницу поймала. Наверное, из-за этой ошибки я и обрекла себя на смерть, как Орфей, который оглянулся. Но ведь это же подло и нечестно! Я машинально пудреницу схватила, чтобы она не разбилась. В мифах и в сказках всегда поступают подло и нечестно, да и в жизни тоже, и сколько бы времени ни прошло, ничего не изменилось; все, что у меня осталось, – это воспоминания, а самое яркое среди них – торопливый поцелуй Тодда. Память об этом поцелуе согревает меня, не позволяет сойти с ума в этой беззвездной, бесплотной, бесчувственной, безвременной мгле.
Спустя минуты или месяцы во мгле возникает тусклая точка света. Я уже начала бояться, что ослепла, как мама Тодда. Потом, через секунды или через годы, точка превращается в ниточку пламени, в пламя свечи, горящей свечи в странном подсвечнике, что стоит передо мной на голых досках пола. Пламя неподвижно. Не яркое, едва освещает помещение – чердак? – но хорошо видны три лица. Справа от меня сидит Кейт Чайльдс, Злая Волшебница Запада, с головы до ног закутанная в серую накидку, как у арабов, только теперь ей почему-то уже за тридцать. Неужели столько времени прошло? Все эти годы у меня... украли? Слева от меня еще одно смутно знакомое лицо...
О господи, да это же мельбурнский Майк. Теперь он одного возраста с постаревшей Кейт Чайльдс, тоже сидит неподвижно, как будда в такой же серой накидке. Сейчас, когда они рядом, становится ясно, что это близнецы. А прямо напротив, шагах в шести за пламенем свечи, на меня смотрит коленопреклоненная Мисс Пигги – точнее, девушка в куртке Зиззи Хикару и с маорийской подвеской на толстой шее. Это я или мое отражение. Хочу шевельнуться, заговорить или хотя бы застонать, но тело не слушается. Мозги включены, зрение не пропало, а все остальное не действует. Как тот француз, про которого мне Фрейя книгу прислала, «Скафандр и бабочка» называется. Может, я тоже в бодрствующей коме? Но француз хотя бы мог моргать одним глазом, а я даже этого не могу. Слева от зеркала – светлая дверь с золотой ручкой. Смутно припоминаю, что я ее уже видела, вот только где? На верхнем этаже Слейд-хауса. Это игровая комната. Наверное, нас троих опоили наркотиками и затащили сюда. Но кто? И где Тодд?
– С юным Косгроувом пришлось расстаться, как и с остальными бродяжками, которые за тобой увязались, – говорит Кейт Чайльдс.
Пламя свечи чуть вздрагивает. Американский акцент сменился четким, аристократическим английским выговором, почти как у моей мамы.
– Ты в Слейд-хаус попала по нашему приглашению. Меня зовут Нора, а это мой брат, Иона.
Хочу спросить, что она имеет в виду и почему это «с Косгроувом пришлось расстаться», но даже губами шевельнуть не могу.
– Он умер. Без мучений. Не горюй, он тебя все равно не любил. Вот уже несколько недель, включая сегодняшнее представление, он служил куклой чревовещателя, а роль самого чревовещателя исполнял мой брат. Он-то и изобретал все эти сладкие россказни, которые ты так хотела услышать.
Пытаюсь сказать Норе, что она сумасшедшая, что я знаю – Тодд меня любит.
– Да объясни ты ей, – раздраженно говорит она мельбурнскому Майку, точнее, Ионе, – а то вкуса никакого не останется, одна труха и сахарин.
Иона – если его на самом деле так зовут – с усмешкой глядит на меня.
– Чистая правда, голубушка. Каждое слово, – произносит он без малейшего признака австралийского акцента, с благородными интонациями воспитанника эксклюзивной частной школы. – Поверь мне, уж я-то в мыслях Тодда Косгроува побывал. Салли Тиммс вызывала в нем такие же нежные чувства, как банка прогорклого жира, забытая в холодильнике.
«Неправда! Все ты врешь! Он меня поцеловал! Он меня спасти хотел!»
– Что ж, придется облечь сказанное в хрюканье, понятное даже самой тупой свинье. Все, что случилось в пабе и по дороге к апертуре в проулке Слейд, произошло по-настоящему. Этот чердак – тоже настоящий. И вот эти наши тела – настоящие. А вот между железной дверцей и чердаком находится оризон – трехмерная, реалистичная декорация, проецируемая моей гениальной сестрицей вот в эту самую временн?ю лакуну. – Иона постукивает по доскам пола.
– Видение, созданное по тщательно разработанному сценарию. Я там тоже присутствовал – духом, если так можно выразиться, двигал тело Тодда, подсказывал ему слова. А все остальное – люди, с которыми ты встречалась, комнаты, по которым ходила, еда, которую пробовала, – все это было локальной реальностью, созданной моей сестрицей. И даже ваша с Тоддом дерзкая попытка бегства была всего лишь частью созданного нами лабиринта для подопытных мышей. Оризон в оризоне. Суборизон. Кстати, надо бы для него получше название придумать. Я бы тебя попросил, только ты вот-вот умрешь.
Я упрямо отказываюсь принимать его слова на веру: «Врешь ты все, это просто кислотный бэд».
– Ничего подобного, – удовлетворенно произносит Иона. – Ты на самом деле умираешь. Мускулатура-то не работает, дыхательная система отказала. Или, по-твоему, это тоже кислотный бэд?
Я с ужасом понимаю, что он прав. Воздух в легкие не поступает. Не могу ни вздохнуть, ни упасть, вообще ничего не могу, просто стою на коленях и медленно задыхаюсь. Близнецов я больше не интересую.
– Ах, сестрица, не могу выразить свое восхищение – слов не хватает, – говорит Иона.
– У тебя слов не хватает? Да ты сто лет не затыкался! – возражает Нора.
– За твой оризон впору Оскара вручать. Несравненный шедевр кубизма... или постмодернизма. Сплошной восторг!
– Да-да, мы оба гениальны... Вот только полицейский... Ты заметил, что его остаточной оболочке хватило сил поговорить с нашей гостьей? Да еще и апертура сама собой возникла – открытая! Девчонка едва не сбежала.
– Но ведь не сбежала же! А все потому, что Купидон ее прочно заарканил. Согласись, сыграть Тодда Косгроува было гораздо труднее, чем Хлою Четвинд. Детектив Тугодум кусок сырой печенки отымел бы без долгих разговоров, а Хрюше настоящую любовь подавай, с ухаживаниями по всем правилам.
Обидные слова сейчас не ранят – меня больше волнует, как долго можно прожить без кислорода. Три минуты?
Нора Грэйер поворачивает голову, как лампочку, вкручиваемую в патрон.
– Братец, ты, как обычно, упускаешь главное. С каждым Днем открытых дверей отклонения усиливаются.
Иона разминает тонкие паучьи пальцы:
– А ты, сестрица, как обычно, чрезмерно подозрительна. Ужин в очередной раз подан вовремя и без заминки. Наш операнд в очередной раз заряжен на полный цикл. А истеришь ты потому, что слишком много времени в Голливуде провела, насмотрелась на волосатые задницы актеришек в зеркальных потолках.
– Братец, не смей со мной разговаривать в таком тоне, – злобно шипит Нора.
– А что будет? Ты без предупреждения смотаешься в Анды, чтобы поразмыслить там о смысле метажизни? Так поезжай немедленно, поправь здоровье. Вселись в какого-нибудь чилийского крестьянина. Или в альпаку. После ужина я тебя сам в аэропорт отвезу. А потом вернешься, куда тебе деваться-то? Операнд важнее любого из нас, детка.
– Операнду уже шестьдесят лет. То, что мы отрезаны от Пути Мрака...
– Позволяет избежать нежелательного внимания тех немногих, кто способен нам помешать. Мы – полубоги, мы ни от кого не зависим. Так что давай не будем ничего менять.
– Мы целиком и полностью зависим от дурацкой пантомимы, которую приходится устраивать раз в девять лет, – ехидно замечает Нора и с отвращением оглядывает себя. – Мы целиком и полностью зависим от исходных тел, которые удерживают наши души в мире. Мы целиком и полностью зависим от случая, надеемся лишь на удачу, на то, что все пройдет благополучно.
Я по-прежнему не дышу. Череп как будто скукоживается. В сознании отчаянно бьется одно-единственное слово: «Помогите!»
– Может быть, все-таки приступим к ужину? – спрашивает Иона. – Или ты из вредности решила операнд уничтожить?
Голова раскалывается от боли, тело жаждет воздуха. «Я задыхаюсь... помогите!»
Нора сопит, как избалованный подросток, и неохотно кивает. Руки близнецов выписывают какие-то узоры, оставляя в темном воздухе мимолетные царапины. Близнецы шевелят губами, шепот становится все громче и громче, и над свечой возникает нечто осязаемое, медленно, клетка за клеткой, превращаясь в мясистую медузу, пронизанную багряными сполохами. Завораживающее зрелище напоминает сцену из ужастика про инопланетян. Из медузы вырастают щупальца, из них тянутся щупальца потоньше, некоторые подбираются ко мне, одно зависает в дюйме перед глазами – крошечное отверстие на кончике шлепает, как губы аквариумной рыбки, – а потом, извиваясь, влезает мне в левую ноздрю. К счастью, я не ощущаю ни его, ни остальных, которые забираются мне в рот, в правую ноздрю и в уши, а потом лоб сверлом пронзает внезапная боль. В зеркале напротив из глазных отверстий маски выползает какая-то сверкающая масса и собирается прозрачной каплей у меня перед глазами. В капле снует миниатюрный сияющий планктон. Очевидно, душа все-таки существует.
Моя душа – самая прекрасная на свете.
Близнецы Грэйеры склоняются ко мне с обеих сторон.
«Не смейте! Это мое! Не троньте! Прекратите...»
Они вытягивают губы, словно вот-вот засвистят.
«Помогите Фрейя Фрейя кто-нибудь помогите мне...»
Близнецы делают вдох, капля-душа вытягивается в овал.
«Ктонибудькогданибудьвасостановитвызаэтопоплатитесь...»
Душа разделяется надвое. Нора вдыхает одну половинку, Иона – другую.
Лица у них такие же, как у Пирса в ту ночь в Малверне.
...все кончено. Близнецы снова сидят как сидели.
Штука со щупальцами исчезла. Сияющая капля исчезла.
Грэйеры неподвижны, как изваяния. И пламя свечи тоже неподвижно. В зеркале маска Мисс Пигги шлепается на пол.