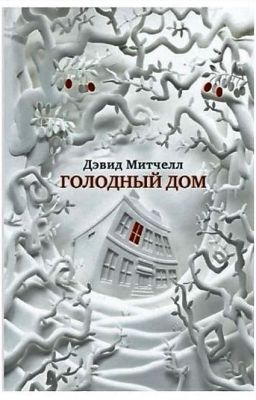11
Похоже, каким-то чудом я ее убедил. Рита Бишоп усаживается на пол:
– Ключ на крючке висит, у вас за спиной. Нарочно там повешен, чтобы я его видела. Так Чудовищу веселее.
Оборачиваюсь: на стене и впрямь висит длинный блестящий ключ. Хватаю его непослушными пальцами, ключ падает, с тонким звоном ударяется о половицу. Поднимаю ключ, нахожу стальную пластинку замка, врезанного в решетку, вставляю ключ в замочную скважину. Дверь распахивается, Рита Бишоп встает, отшатывается, делает шаг к дверному проему и ошалело глядит на меня.
– Ну, миссис Бишоп, – шепчу я, – пойдемте же скорее. Нам пора.
Пленница, неуверенно ступая, приближается к решетке, хватает меня за руку и выходит из клетки.
– Я... я... – хрипло, надсадно выдыхает она.
– Спокойно, спокойно, – говорю я. – Все в порядке. Вы не знаете, у нее... у них оружие есть?
Дрожащая Рита Бишоп ответить не в состоянии, – вцепившись мне в рукав, она повторяет:
– Мне это не снится, правда? Скажите, не снится?
– Нет, не снится. Пойдемте.
Пальцы с неожиданной силой впиваются мне в запястье.
– И я вам не снюсь?
Если б меня девять лет взаперти держали, я б тоже спятил.
– Нет, не снитесь, – терпеливо отвечаю я. – Пойдемте же скорее.
Она выпускает мою руку:
– Детектив, посмотрите...
– Миссис Бишоп, нам пора.
Не обращая внимания на мои слова, она подносит мне к лицу зажигалку, щелкает.
Вспыхивает тонкий язычок пламени...
...удлиняется, бледнеет и замирает, будто стоп-кадр. Это не зажигалка, а свеча в массивном металлическом подсвечнике, покрытом замысловатыми письменами – арабскими, иудейскими, фиг его знает какими, в общем, иностранными. Клетка исчезла. Мебель исчезла. Рита Бишоп исчезла. Пламя свечи – единственный источник света. Чердак скукожился, в нем темно, как в гробу в заваленном подземелье. Стою на коленях, будто окаменел, и совершенно не понимаю, что происходит. Пытаюсь шевельнуться, но даже пальцем двинуть не могу. Язык не ворочается. Мое тело – клетка, а я в ней заперт. Все отказало, осталось только зрение и мозг. Вот и соображай! Нервно-паралитический газ? Инсульт? Каким-то ядом опоили? Черт его знает. Соображай быстрее, болван! Тоже мне, детектив. В темноте проступают три лица. Прямо напротив, за пламенем свечи – я в халате покойника. Значит, там зеркало. Слева от меня – Хлоя, в какой-то толстой накидке с капюшоном. Справа... тоже Хлоя, только мужик. Похоже, брат-близнец – в такой же накидке, блондин, смазливый, как фотомодель, этакий пидорок-гитлерюгендовец. Оба стоят неподвижно. Рядом с пламенем свечи завис бурый мотылек – будто застыл в воздухе. Застыл во времени. Я не сплю, – пожалуй, это единственное, в чем я уверен. Значит, вот как Гордон Эдмондс с ума сошел.
Проходит время – не знаю сколько. С тихим шипением горит свеча, белое пламя чуть колышется. Мотылек нарезает круги, то исчезает в темноте, то снова появляется.
– И нечему тут улыбаться, братец, – говорит Хлоя, или кто она там на самом деле.
Лицо у нее точно такое же, как у той, что угощала меня тирамису, а вот ласковый прежде голос теперь скрежещет, будто ржавый нож.
– А я и не улыбаюсь. – Он переминается – ноги у него затекли, что ли?
Я пытаюсь шевельнуться – без толку. Хочу что-то сказать – и не могу.
– Не ври, Иона. – Хлоя глядит на свои руки, как на пару перчаток, будто не знает, нужны они ей или нет. – Я же не ухмылялась, когда ты два цикла назад парикмахершу ублажал. Между прочим, вы тогда даже совершили обмен физиологическими выделениями. – С отвращением покосившись на меня, она продолжает:
– А этому похотливому псу всего лишь воображаемая косточка досталась.
– Но даже если я и улыбался, – отвечает он, – то исключительно из гордости за твое выступление в моем суборизоне. Ты великолепно изобразила нервическую вдову. Хотя, согласись, мизансцена в клетке на чердаке у меня получилась превосходно. Роль бедняжки миссис Бишоп я сыграл вдохновенно, Мерил Стрип бы обзавидовалась. Если честно, девять лет назад я на нее особого внимания не обращал – мне ее голос на нервы действовал. Чего ты куксишься, сестрица? Очередной день открытых дверей прошел замечательно, операнд еще раз подтвердил свою надежность, гусь ощипан и готов к употреблению, а ты вся какая-то... кислая.
– Операнд – вольная импровизация, в которой все зависит от...
– Нора, я тебя умоляю, ужин на столе. Неужели нельзя...
– ...все зависит исключительно от везения, Иона. А нам нельзя полагаться на авось.
Он – Иона – глядит на сестру – Нору – с ласковой снисходительностью.
– Пятьдесят четыре года наши души скитались по свету, вселяясь в избранные нами тела, живя в свое удовольствие, а наши викторианские сверстники уже давно умерли или вот-вот умрут. А мы живем. Операнд работает.
– Да, работает, но только при условии, что наши собственные, первородные тела остаются здесь, в лакуне. Операнд работает, но только при условии, что каждые девять лет лакуну следует заряжать, для чего необходимо завлечь какого-нибудь простофилю из Одаренных в подходящий оризон. Операнд работает, но только при условии, что нашим гостям можно задурить голову, заманить их в лакуну и заставить принять обалдин. Не слишком ли много условий, Иона? Да, до сих пор нам везло, но вечно это продолжаться не может. И не будет.
Понятия не имею, о чем они говорят, но Иона злится все больше и больше.
– И зачем тебе понадобилось целую лекцию об этом читать, сестрица?
– Надо защитить операнд от досадных случайностей – и от врагов.
– От каких еще врагов, сестрица? Я ведь не зря настаивал на полной изоляции – теперь даже Путь Мрака о нас не ведает. А если система жизнеобеспечения работает, то не надо ее трогать. Все, кушать подано. – Иона переводит взгляд на меня: – Я о тебе говорю, детектив Тугодум.
Все мои старания напрасны: не получается ни шевельнуться, ни воспротивиться, ни просить пощады. Даже обосраться от страха и то не могу.
– А ты уже и не дышишь, – равнодушно замечает Иона.
«Нет, неправда! – думаю я. – Я же сознания не теряю».
– Скоро потеряешь, – говорит Иона. – Уже недолго осталось. Четыре минуты без кислорода – и в работе головного мозга возникают необратимые нарушения. Часов у меня нет, но, по-моему, минуты две уже прошло. К концу шестой минуты наступает смерть, но от предсмертных страданий мы тебя избавим – мы же не садисты.
Меня как будто выталкивает вверх. «Чем я такое заслужил?!»
– A при чем тут «заслужил»? – Нора Грэйер удивленно изгибает четко очерченную бровь. – Что, свинья чем-то заслужила то, что ее копченую плоть на завтрак тебе подали? Бессмысленный вопрос. Тебе захотелось бекона, вот свинью на бойню и отправили. А нам твоя душа понадобилась для того, чтобы операнд зарядить, так что лакуны тебе не избежать, только и всего.
Трусливые люди в полиции не служат, но мне сейчас страшно, аж жуть берет. С религией я не дружу – глупости это все, но внезапно меня осеняет: «Если это похитители душ, то надо помолиться Богу». Как оно там? «Отче наш...»
– Отлично придумано, – говорит Иона. – Вот что, инспектор, если ты сейчас молитву Господню от начала до конца без ошибок прочтешь, то мы тебя отпустим. Но сначала поглядим, как у тебя получится.
– Что за детские забавы, братец?! – вздыхает Нора.
– Ну и что такого? Все по справедливости. Дадим ему шанс. Давай, Тугодум, на старт, внимание, марш! «Отче наш, сущий на небесах...» А дальше как?
Иона – говнюк вонючий, гаденыш, но выбора у меня нет.
«Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое...»
– Не понял, светится или святится? – спрашивает Иона.
Вот сволочь! Ладно, играем по его правилам. «Святится», – думаю я.
– Браво! Ну, вперед. «Да святится имя Твое...»
Что же там дальше? «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и не введи нас в искушение, и прости нам должников наших, как мы...»
– Стоп! Должников или все-таки долги, то есть прегрешения? Кого или что?
Ох, как мне хочется его довольную рожу раскровенить! «Что», – думаю я.
– Ух ты, да нам умник попался! Итак, «и прости нам долги наши...»
«Как мы... мы... мы...»
– Так, не понял – это у тебя мысли заикаются или ты мычишь, как телок?
«Как мы прощаем должникам нашим. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь».
Уф, теперь все. Я смотрю на него.
Стервец улыбается.
– Увы, «да приидет», «как и мы прощаем», искушение – после должников, а «избавь нас от лукавого» ты вообще пропустил. Что в данных обстоятельствах весьма забавно.
Настал мой смертный час.
Вот этот самый.
Сейчас.
Я умру.
– И в чем смысл этого представления? – спрашивает Нора.
– Щепотка отчаяния придает душе насыщенный вкус. Ну что, ты готова, сестрица?
– Я всегда готова, – ворчит Нора.
БлизнецыГрэйеры начинают чертить в воздухе какие-то символы и бубнят что-то нанеизвестном языке. Над пламенем свечи, чуть выше моих глаз, воздух словно бысгущается, темнеет, наливается изнутри красноватым свечением, пульсирует, будтосердце бьется, увеличивается до размеров мозга, выпускает змеящиеся щупальцаплетей, отростков или корешков.
Они тянутся к близнецам и ко мне, я не могу ни увернуться, ни отмахнуться, ни даже зажмурить глаза, а плети острыми тонюсенькими пальчиками просовываются мне в рот, в уши, в ноздри и ворочаются внутри. Боль гвоздем пронзает лоб, в зеркале видно, как над переносицей возникает черная дырочка... Крови нет. Проходят секунды. Из дырочки что-то вытекает и зависает в воздухе, прямо у меня перед глазами. Сгусток размером с мячик для гольфа, прозрачный, как желе или яичный белок, а в нем кружат сияющие пылинки, или галактики, или...
О господи, какая красота!
Боже, как переливается!
Оно живое... Это моя...
...На меня надвигаются лица близнецов – Иона слева, Нора справа, – лица гладкие, алчные, губы выпячены, будто для свиста, всасывают... что? Да мою душу, это ведь она медленно и неумолимо растягивается, как густая клейкая масса, как тягучий пластилин. Половина души струйкой дыма отправляется в рот к Норе, половина – к Ионе. Я разрыдался бы, если б мог, заорал бы: «Убью гадов, вы у меня поплатитесь, я вас из-под земли достану!» – но от Гордона Эдмондса остался лишь сор. Шелуха. Скорлупка. Оболочка из плоти и кожи. Близнецы ахают, тихонько постанывают, как наркоманы, когда дурь в крови полощет. Накатывает оглушительный шум, будто конец света пришел, а потом наступает полная тишина, как наутро после конца света. Зависший сгусток-мозг исчез, воздушные отростки тоже пропали. Будто ничего и не было вовсе. Близнецы стоят на коленях по обе стороны свечи, друг против друга, неподвижные, как замершее пламя. Зеркало опустело. На полу валяется крошечный обгорелый клочок – все, что осталось от мотылька.