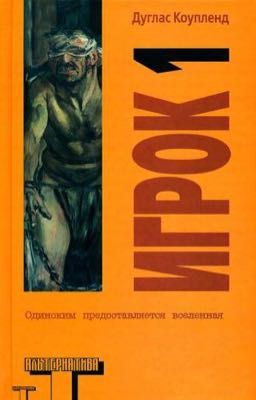Люк
Люк сидит рядом с Карен и пытается вспомнить, какой сегодня день недели. Это как будто нелепая блажь, пережиток ушедшей эпохи, когда знание дня недели еще имело значение. Он спрашивает у Карен:
— Сегодня что? Вторник? Или среда? Завтра будет четверг? Не могу вспомнить.
— Я тоже, Люк.
По ощущениям Люка сейчас просто день — обобщенный. Наверное, именно так и воспринимались дни, когда люди еще не придумали делить время на дни недели. Интересно, строители Стонхенджа ощущали дни так же: как некий отрезок без времени, вне времени? Хотя, быть может, строители Стонхенджа ощущали так годы и пытались найти подтверждение тому, что в природе что-то должно измениться, что зима непременно закончится.
Берт мертв, его труп оттащили в самый дальний угол. Макс лежит на матрасе из скатертей и время от времени тихо стонет. Рейчел жива, но состояние у нее очень тяжелое. Она тоже лежит на матрасе из скатертей, а Рик сидит рядом с ней, мрачный и молчаливый. В дрожащем свете свечей кровь у него на рубашке кажется плотной, как слой пластилина.
Люк сидит рядом с Карен, наблюдает за Максом и Рейчел, периодически дает Максу глотнуть воды, которую они обнаружили в поддоне под генератором льда.
Снаружи по-прежнему бушует химическая буря. Тело Уоррена напоминает «лежащего полицейского», погребенного под хлопьями розовой пыли. И пока не закончится эта буря, помощи ждать неоткуда. Люк пытался сходить за помощью, но теперь дверь отеля, выходящая на крытую галерею, оказалась не просто запертой, но и забаррикадированной изнутри. А потом, когда Люк вернулся в бар, ему тоже пришлось раздеться, как Максу, чтобы смыть с себя химическую пыль, и теперь он сидит в рубашке и брюках Рика из запасного комплекта его барменской униформы.
Люк знает, что по идее он сейчас должен быть пьян, но опьянения нет. Оно прошло еще пару часов назад. И наступила кристальная ясность ума. Восприятие обострилось. Он никогда в жизни не чувствовал себя таким трезвым. Люк размышляет о двух стержневых магнитах, которые украл из школьной лаборатории, когда учился в выпускном классе. Эти магниты сохранились у него до сих пор. Он всю жизнь возил их с собой, всегда держал в прикроватных тумбочках рядом с Библией, где бы он ни оказался. Люк хранил эти магниты, потому что никак не мог уразуметь, почему противоположные полюса притягиваются, а одинаковые — отталкиваются, но он был уверен, что, если смотреть на них очень внимательно, можно увидеть тончайшие ниточки, тянущиеся сквозь пространство и противодействующие друг другу. Если смотреть очень внимательно, то их действительно можно увидеть. Однажды — ему тогда было лет двадцать — он спросил у своей старшей сестры, врача-рентгенолога, каким образом магниты взаимодействуют друг с другом. Она ответила:
— Через магнитные поля.
— Да, но что это за поля?
— Силовые поля, окружающие магниты.
— Это не ответ. Как они действуют, эти поля?
— Ну, мы знаем, как использовать эти поля, можем регулировать их силу и создавать их, например, ускорением заряженных частиц.
— Я спрашиваю о другом. Мне интересно, откуда берется эта магнитная сила. Там на полюсах собираются электроны и отпихивают электроны другого магнита, типа как эти шарики с глазами в рекламе «М&М's», когда они надевают боксерские перчатки и начинают мутузить друг друга?
— Нет, поля не состоят из элементарных частиц.
— А из чего они состоят?
— Этого мы не знаем.
— Не знаем?
— Не знаем.
— То есть все, что мы знаем об этих полях, — это то, что они существуют.
— В общем, да. А еще они искривляют пространство. Просто надо привыкнуть к мысли, что поля есть поля, и мы, наверное, никогда не поймем, как они устроены. Гравитация ведь тоже поле. Только оно не такое сильное. Чтобы брошенный вверх камень упал, нужна сила притяжения целой планеты размером с Землю. При этом небольшой магнит может сравниться с ней по силе.
— Понятно.
Но на самом деле Люк ничего не понял. И его продолжал беспокоить этот вопрос. Если мы не знаем, что такое магнитное поле, значит, есть еще много всего, чего нам никогда не понять? И какие еще существуют поля — слишком огромные или, наоборот, слишком маленькие и потому недоступные человеческому пониманию?
Карен говорит:
— Мне очень жаль. Насчет твоего отца. У моей мамы сейчас то же самое. Болезнь Альцгеймера.
— Я всегда думал, что болезнь Альцгеймера — это такое наказание людям, — говорит Люк. — За то, что мы не хотим меняться. — Он умолкает на пару секунд, а потом добавляет: — Надеюсь, это не прозвучало, как нравоучение.
— В смысле меняться, как личности?
— И как личности, и как сообщество. С годами я понял, что люди почти никогда не меняются. Сколько всего я выслушивал от своих прихожан... Вы даже не представляете, сколько гадостей. Большинство людей даже и не стремится меняться. Они вообще ничему не учатся. А если и учатся, то очень кстати забывают о том, чему научились, когда им это выгодно. Большинство людей, даже если им дать второй шанс, все равно все запорют. Таков непреложный закон вселенной. Может быть, люди чему-нибудь и научатся, если дать им третий шанс — после того как они столько всего потеряют и растратят зря время, деньги, силы и молодость. Но даже если они чему-то научатся, это не значит, что они захотят изменить свою жизнь. Большинство просто озлобится или впадет в депрессию, потому что им недостает силы духа, чтобы сделать решительный шаг.
— Похоже, тебе приходилось выслушивать немало рассказов о чужих проблемах.
— Это да. Слушай, а твоя мама... она уже тебя не узнает?
— Да. А твой отец тоже перестал тебя узнавать?
— Да. Почти сразу.
Карен говорит:
— С мамой уже совсем плохо. Она как будто превращается в животное. Я только не знаю, в какое животное. Она кричит. И мычит. Она уже не человек. Я теперь часто задумываюсь, что значит быть человеком — по сравнению с тем, чтобы быть кем-то еще. И я все больше и больше склоняюсь к мысли, что мы, люди, не так сильно зависим от нашей природы, как, например, кошки, которые гоняются за мышами, или собаки, которые любят грызть кости. И это дает надежду, пусть даже безумную надежду. Мы все-таки можем меняться. И пожалуй, когда-нибудь мы превратимся во что-то другое, настолько другое, что мы пока даже не знаем, что это будет.
— Да... — говорит Люк. — А я вот пытаюсь решить, стоит ли хранить воспоминания, если в конечном итоге я все равно потеряю память и вообще все потеряю. Или из-за болезни, или когда умру. Какой смысл что-то делать, если я все равно выживу из ума.
— Ненавижу это выражение, — говорит Карен.
— Прошу прощения.
— Да нет, все нормально. Врачи в медцентре, где я работаю, употребляют его постоянно. Но мне оно все равно не нравится.
Макс открывает рот и показывает жестом, что хочет пить. Карен подносит к его губам чашку с водой.
Люк говорит:
— Как бы там ни было, время стирает все. И это касается всех и каждого: и самых лучших из нас, и самых худших. — Он обводит взглядом зал. — Да уж, веселые у нас мысли.
Карен смотрит на Люка, а потом они оба начинают смеяться. Сперва просто тихо хихикают, а потом истерически хохочут, сгибаясь пополам и держась за живот. Рик поднимает голову, удивленно глядит на них.
Наконец Люк успокаивается и говорит:
— О Боже! Мы просто какое-то ходячее бедствие. В смысле мы — люди. Как биологический вид.
— Правда? — хрипло произносит Рик.
— Истинная правда, — говорит Люк. — Люди — главная катастрофа на нашей планете. Нет, даже не люди, а наша ДНК. Вот самый злостный преступник. Вот настоящее бедствие. Все, что мы творим с собой и планетой, — это вина нашей злобной молекулы ДНК. «Привет, я молекула ДНК. Я строю соборы и летаю на Луну. Черт возьми, я обуздала атомную энергию! Вот вам, вирусы! Получайте!» — Люк обводит взглядом зал. — И что мы имеем в итоге? Соленые закуски к пиву. Слепота. Токсичный снег. Неработающие электростанции. Сдохшие телефоны. Это даже уже не смешно.
Все какое-то время молчат, а потом Карен говорит:
— Знаешь, Люк, если ты все забываешь, в этом есть и хорошая сторона. Как в сновидении, когда тебе снятся умершие родственники и друзья. Там, во сне, ты не знаешь, что они умерли. Там они живы. Может, ты что-то такое и чувствуешь... ну, что это неправильно, что их там быть не должно. И тем не менее там, во сне, они живы. И представь, как это было лет двести — триста назад. Если человек доживал до пятидесяти или до шестидесяти, его сны были наверняка переполнены мертвыми. И может быть, там, в сновидениях, ему было лучше, чем наяву Способность забывать — это наша защита, Люк.
Люк думает о своей собственной жизни до нефтяного кризиса. Когда-то он верил, что если в жизни у человека не было никакого Великого приключения, значит, жизнь прошла зря. Он утешал себя мыслью, что тихая одинокая жизнь — тоже в каком-то смысле Великое приключение. И постоянно ловил себя на том, что измышляет разные отговорки, объясняющие, почему спать одному по ночам — это нормально и даже приятно. Сказать по правде, он стал пастырем в церкви, потому что надеялся, что, если люди пойдут к нему со своими проблемами, ища утешения и совета, это поможет ему забыть, что у него самого, по сути, нет никакой жизни. Чужие проблемы изрядно ему надоели, и он даже начал бояться людей с проблемами. Но ему очень хотелось быть кому-то нужным. И не просто «кому-то», а человеку, которого он действительно любит.
И вот рядом с ним сидит Карен. Ему хочется ее выслушать, хочется вникнуть в ее проблемы. И она вроде бы тоже не против выслушать его. Она раскрывается перед ним. Она спрашивает:
— Люк, у тебя есть собака?
— Собака? Нет. А почему ты спросила?
— Когда ты одинок и тебе за сорок, хорошо завести собаку. Это значит, что ты еще можешь кого-то любить. И устанавливать близкие отношения.
— Но есть и обратная сторона, правильно?
— Разве?
— Ну да. Это может означать, что ты уже не способен на близкие отношения с людьми.
— Выходит, куда ни кинь, всюду клин?
— Всюду.
— Ты мне нравишься, Люк.
— Ты тоже мне нравишься, Карен.
— Тебе одиноко, Люк?
— Да.
— Мне тоже.
Все снова затихли. Где-то снаружи взревела сирена, но быстро умолкла.
Люк сказал:
— Я уже начал свыкаться с ним... со своим одиночеством... но больше я так не могу.
— Собственно, одиночество и привело меня в этот бар, — сказала Карен. — Мать-природа, похоже, любит прикольнуться.
— Еще как любит.
— А как тебе кажется, ты будешь скучать без работы в церкви?
— Сомневаюсь, что буду скучать. Я устал от людей, которые верят всему, что слышат. Я устал от того, что мы все запрограммированы на то, чтобы верить лжи.
— То есть церкви лгут людям?
— Существуют сотни религий и тысячи церквей. Какие-то точно лгут. И мне не хотелось бы видеть себя человеком, которого интересуют только людские страдания. Я не вампир. И не святой.
— Один из врачей в том медцентре, где я работаю, однажды сказал... Он ирландец, католик. Очень религиозный. Так вот, он сказал, что, если бы на Земле остались всего два католика, один из них непременно бы стал папой римским.
— Ха! Неплохо!
— И кстати, Люк, а как быть с фрикадельками?
— С фрикадельками?
— Да. Кого, интересно, они пытаются обмануть? Все знают, что это замаскированные тефтели.
— У тебя интересные взгляды на жизнь...
— Имея пятнадцатилетнюю дочку-гота, приходится вырабатывать интересные взгляды. Впрочем, они сами собой вырабатываются. Буквально за считанные секунды. Особенно когда ты идешь с доченькой в магазин, и она просит у мясника пинту свежей коровьей крови.
— И как ты на это отреагировала?
— Да, в общем, спокойно. Если бы не коровья кровь, было бы что-то другое. Огнемет. Пневматический строительный степлер. Когда у нее был период вегетарианства, я ей однажды купила сосиски из тофу, и она мне прочла целую лекцию о том, почему сосиски из тофу — это даже противнее, чем сосиски из мясных субпродуктов.
— Это как?
— Она сказала, что в данном случае образ жизни, основанный на мире и радости, цинично используют для создания имитации самого худшего из возможных мясных продуктов. Сказала, это все равно что пытаться создать не-нацистского нациста.
— Забавно. — Люк на секунду умолк. — Знаешь, я, когда думал о церкви, пришел к одной мысли... Даже к двум мыслям на самом деле.
— К каким?
— Однажды я шел мимо школьного стадиона, и там репетировал детский марширующий оркестр. Это было ужасно... Они играли какую-то совершенно убогую версию «Не прекращай думать о завтра». Или как называется эта песня? Ну, знаешь, у «Флитвуд Мэк». И там был старик. Он присматривал за инструментами. Мы с ним рядом стояли, и он сказал: «Прямо-таки маленькие ангелочки! А вы знаете, в чем секрет марширующих оркестров?» Я ответил, что не знаю, и тогда он сказал: «Все очень просто. Если хотя бы половина музыкантов играет правильно, остальные могут играть как попало, и все равно в целом будет звучать вполне слаженно». И мне кажется, что в любой организации именно так все происходит. В любой, включая религию.
— А какая вторая мысль? Ты говорил, у тебя их две.
— Да, есть и вторая. В прошлом месяце я покупал тарелки. Хотел взять зеленые фарфоровые. Такие же, как у меня были. Старые поотбивались по краешку, я их хотел заменить. Но я не нашел в магазине тарелки, которые всегда покупаю. Спросил у хозяина, не сняли ли их с производства. А он улыбнулся и сказал: «Эти тарелки производили четыреста лет. И будут производить еще столько же. Просто я их переставил. Они теперь у окна». И знаешь, я не хочу быть зеленой тарелкой, одной из многих, легко заменяемой и такой же, как все.
— Люк, чувствовать себя уникальным и быть уникальным — это совсем не одно и то же.
— Я знаю. И все-таки. Мы должны что-то значить. Я хочу, чтобы меня запомнили. Хочу остаться в истории. Хочу, чтобы в Википедии была посвященная мне страница. Хочу, чтобы Google выдавал сотни страниц по поиску на мое имя. Не хочу быть просто живым организмом, который пришел в эту жизнь и ушел, не оставив следа.
— А что в этом плохого?
Люк не знал, что на это ответить, но ему и не пришлось отвечать. Потому что как раз в это мгновение включилось электричество, в баре зажегся свет, и пространство, создававшее ощущение средневековой жанровой живописи, теперь ощущалось как фотоснимок места преступления. Весь ужас прошедших часов превратился в застывшую сценку, «живую картину» в музее естественной истории: существа, населявшие Землю в палеозойскую эру; крытые конные фургоны, пересекающие бескрайние прерии и роняющие по пути пианолы и кресла; Международная космическая станция, на которой проращивают бобы в условиях невесомости; коктейль-бар в центре североамериканского континента — кровь на полу, огнестрельное оружие, искалеченные тела, рассыпанные орешки и чипсы, — свидетельства кровавой бойни и катастрофы, постигшей человечество в день, когда кончилась нефть. Карен сидела, прижимая к себе Макса и пытаясь хоть как-то собрать себя по кусочкам и скрепить их метафорическим скотчем и канцелярскими резинками. Она молчала. Не хотела ничего говорить, чтобы лишний раз не беспокоить ослепшего мальчика. Рик тоже молчал, хотя внутри весь кипел от ярости. Он держал руку великолепной Рейчел, генетически совершенной или же генетически ущербной — в зависимости от того, как посмотреть на ее существование, которое вот-вот завершится.
«Жизнь коротка, — думал Люк. — А покорность судьбе — это удел неудачников. А деньги — действительно кристаллизованная, затвердевшая форма времени и свободы воли, но для того чтобы выжить, нужно, чтобы была нефть».
Люк продолжал обозревать развороченный бар, не зная, что делать дальше. Он потерял веру, но сейчас как никогда был уверен в том, что у него все-таки есть душа. Потому что его душа пережила эти последние пять часов, узнала и боль, и любовь — но, с другой стороны, что толку в душе, если нет веры?
Карен тихо плакала, и Люк взял ее за руку. И тем самым признал скорбь и горечь человеческого существования. Отец Люка наверняка бы сказал сейчас: «На все воля Божья». А потом повернулся бы к Люку и проговорил: «А теперь, сын, помолимся».