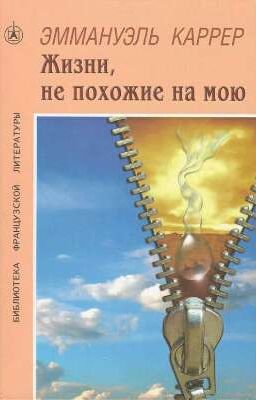17.
Перед уходом он сказал Жюльетт: «Не знаю, что произойдет этой ночью, но что-то непременно должно случиться. Завтра ты будешь другим человеком». Когда он вернулся на следующий день, она встретила его с расстроенным выражением на лице. «Ничего не вышло, — пожаловалась Жюльетт. — Не получилось никакого преображения. Я не воспринимаю болезнь так, как ты; на самом деле, я даже не поняла, какой ты ее себе представлял. Лично мне казалось, будто она сидит и пялится на меня из того кресла».
Она ткнула пальцем в сторону кресла из черного дерматина с ножками и подлокотниками из металлических трубок. Этьен и в этот раз его проигнорировал, отдав предпочтение радиатору отопления.
(Три года тому назад, читая эту страницу, Этьен сказал мне, что нечто, притаившееся в кресле, напомнило ему моего лиса, свернувшегося в клубок на диване Франсуа Руслана. Лично я думаю, что в тот день Жюльетт высказала идею, противоположную его собственному взгляду: «Моя болезнь чужда мне. Она меня убивает, но она — это не я». И еще мне кажется, что по-другому свою болезнь она никогда не представляла.)
«Ну вот, ты пережила свою первую ночь, — сказал Этьен. — Ты познакомилась с болезнью и выделила ей какой-то уголок в своем сознании, но не больше. Это хорошо».
Для Жюльетт его слова прозвучали не очень убедительно. Она вздохнула, словно студент, заваливший экзамен и предпочитающий сменить тему для разговора, потом печально произнесла: «Мои девочки забудут обо мне».
«Ты тоже не вспоминала о матери, когда была маленькой. Как и я о своей. Мы больше не видим их лиц. Однако они живут в нас».
Этьен сказал, что эти слова сами по себе всплыли в его памяти. И точно так же спонтанно я ответил ему: «Ты много рассказывал об отце, и почти ничего о матери. Расскажимне о ней». Он посмотрел на меня удивленным взглядом, помолчал, а потом заговорил. Детские годы матери пошли в Иерусалиме, где дед руководил французской больницей. Маленькая девочка не ходила в школу, по всем предметам занималась с матерью. Долгое время ее круг общения был ограничен только членами семьи. Отец Этьена тоже воспитывался в изоляции, выходит, встретились две одинокие души. Мать всем сердцем любила этого эксцентричного, непокорного и несчастного человека. Она сумела защитить их детей от подавленности мужа, передать им дух свободы и стремления к счастью, чего не было ни у нее, ни у него, и Этьен по праву восхищался ею. Он был третьим ребенком в семье. До его рождения второй мальчик, Жан-Пьер, умер в годовалом возрасте от дыхательной недостаточности. Малыша отвезли в больницу, и там он задохнулся в страшных, непостижимых мучениях вдали от матери — ей запретили оставаться с ребенком. Несчастную женщину до конца жизни терзала мысль: ее малютка умер в одиночестве, без нее. «Вот и все, что я могу рассказать тебе о моей матери», — заключил Этьен.
Жюльетт потребовала от врачей в Лион-Сюд быть с ней до конца честными, и они сдержали слово. Ей сообщили, что она неизлечимо больна и умрет от рака, но сказать, сколько ей оставалось жить, затруднялись: в принципе, болезнь могла тянуться годами. Следовало быть готовой к тому, что эти годы пройдут под знаком красного креста, и качество ее жизни существенно понизится. У нее был муж, трое маленьких дочек, которых надо растить, и она решила лечиться. Спустя неделю после постановки диагноза, она начала химиотерапию и курс лечения герцептином: раз в неделю ложилась в дневной стационар под капельницу. С лечением рака все было понятно. Что касается проблем с дыханием, то антикоагулянты, к несчастью, оказались неэффективными. От легких Жюльетт осталось, как говорится, одно название. «Картон», — сказал рентгенолог, печально покачивая головой: он никогда не видел, чтобы женщина ее лет была в таком состоянии. Напрашивалось единственное решение — «сажать» больную на аппарат. Для этого в Розье отправили два огромных кислородных баллона, от грузовичка до дома их пришлось везти на двухколесной тележке. Один баллон поставили в спальне, второй — в гостиной. В комплект кислородного аппарата входили ползунковый регулятор подачи газа, длинный шланг, нечто вроде очков с заушинами и две небольшие трубки, вставляющиесяв нос. Как только Жюльетт чувствовала приближение приступа, она надевала маску, и ей сразу же становилось легче: Какое-то время теплилась надежда, что использование кислородного прибора — мера временная, но Жюльетт прибегала к его помощи все чаще и чаще, а к концу практически не расставалась с ним и горевала, что дочери запомнят ее жалкой калекой или существом из научно-фантастического фильма.
Когда Амели спросила ее: «Мамочка, а ты умрешь?» она решила ответить дочери так же честно, как врачи ответили ей самой. Она сказала: «Да, все когда-нибудь умирают, даже Клара, Диана и ты — вы умрете, но очень-очень нескоро, и папа тоже. Ну а я умру пораньше, но все-таки немного нескоро».
«Через сколько времени?»
«Врачи не знают, но не сейчас. Я тебе обещаю, не сейчас. Поэтому не надо бояться».
Конечно же, Амели и Клара боялись, но не так, как если бы им врали. Некоторым образом, слова матери не только успокоили обоих девочек, позволив им и дальше жить привычной девчачьей жизнью, но и ободрили их отца. Патрис всегда жил настоящим. Он инстинктивно претворял в жизнь то, что мудрецы всех времен называли секретом счастья — быть здесь и сейчас, не сожалея о прошлом и не беспокоясь о грядущем. Теоретически, мы признаем: бессмысленно беспокоиться по поводу проблем, что могут появиться через пять лет, поскольку мы не знаем, в каком виде они предстанут перед нами, и будем ли мы еще живы, чтобы противостоять им. Мы признаем это и, тем не менее, переживаем. Но Патриса подобные вещи не волновали. Такая беззаботность происходит от душевной чистоты, веры в себя, свободы, всех добродетелей из Заповедей блаженства[53],и все, что я пишу здесь, озадачило бы его — настолько бескомпромиссна его мирская культура; вместе с тем, меня удивляет, что такие ревностные христиане, как его тесть и теща, не видят, что жизненная позиция этого примитивного антиклерикала — есть не что иное, как дух Евангелия. Подобно ребенку, без конца твердящему под одеялом магическую фразу, несущую успокоение, подобно собственным дочерям, Патрис молил: только не сейчас. Через три, четыре, пять лет. На протяжении этих трех, четырех, пяти лет Жюльетт будет становиться все более слабой, все более зависимой, и он должен будет заботиться о ней, помогать ей, носить на руках, как это было в самом начале. Не хочу быть чересчур идилличным: бессонница и тревога измотали Патриса, как измотали бы любого другого на его месте, но я думаю — он и сам мне об этом сказал, — что он очень рано начал претворять свою программу в жизнь: быть на месте, носить Жюльетт, жить с ней столько, сколько отведено свыше, не думая о моменте, когда все закончится, и что выполнение этой программы всем им — ему, ей и их девочкам пошло на пользу.
Как только врачи объявили о болезни Жюльетт, мать Патриса невесть откуда прознала о некоем Белянски, неортодоксальном исследователе, чьи лекарственные препараты на растительной основе якобы излечивали — не просто приносили облегчение, а излечивали — больных раком и СПИДом. Приводимые ею свидетельства смущали Патриса, он лишь отчасти принимал их на веру, но, не желая упускать ни малейшего шанса, попытался уговорить Жюльетт принимать пилюли параллельно с химиотерапией. Как истинная дочь своих родителей, она ответила, что если бы существовали чудодейственные таблетки от рака или СПИДа, это было бы известно. Как истинный сын своих родителей, Патрисобъяснил ей, что если сведения о них не получили широкого распространения, то лишь потому, что открытие Белянски ставит под угрозу интересы фармакологических лабораторий, и они делали все возможное, чтобы скрыть его от общественности. Подобные разговоры сильно раздражали Жюльетт. Эта тема всегда была предметом спора между ними. Она терпеть не могла теорий заговора, тогда как Патрис охотно принимал их на веру. Ему пришлось пойти на попятную, но от своей затеи он не отказался: даже если она не верит в пилюли Белянски, он просит ее попробовать их для него: чтобы в случае трагического исхода он не мучил себя упреками за пренебрежение даже малейшим шансом спасти ее. Жюльетт вздохнула: «Ну, если это нужно, чтобы ты чувствовал себя лучше, тогда другое дело — я согласна». Домашний врач привез пилюли, объяснил, как их принимать, и она неохотно уступила, понимая, что ей придется скрывать это от лечащих врачей. Дав согласие, Жюльетт выразила опасение, как бы лечение по методу Белянски не сказалось отрицательно на действии герцептина, и ей ответили, пожав плечами, что это пищевая добавка, и если она не даст положительного результата, то не навредит тем более. Спустя несколько недель Жюльетт перестала принимать пилюли, и Патрис не осмелился спорить с ней.
Она была измотана, плохо спала, а днем почти ежечасно, за редкими исключениями, прибегала к помощи кислородного аппарата. Мелкие болячки, обычно сопровождающие тяжелую болезнь, также не замедлили дать о себе знать: сначала появилась аллергия на порт-систему[54],потом из-за тромбоза рука посинела до самого плеча, и Жюльетт снова пришлось срочно госпитализировать. Однако, по мнению врачей, она хорошо переносила химиотерапию — лучше, чем сама того ожидала, даже лучше Этьена, вспоминавшего свое собственное лечение. Это уже обнадеживало, и Патрис не мог удержаться от мыслей: «А если, в конце концов, все сложится хорошо? Что, если врачи были слишком пессимистичны и не хотели внушать несбыточных надежд из этических соображений? Что, если она поправится?Возможно, у нее начнется длительная ремиссия, не понадобится серьезное лечение, и она не будет так мучиться? Тогда в погожие дни мы будем гулять в лесу, устраивать пикники».
В феврале состояние Жюльетт немного улучшилось, и она согласилась повидаться с нами. Мы с Элен и Родриго тут же отправились в дорогу, не забыв уложить в багаж парик.У Жюльетт всегда были потрясающие, длинные и густые черные волосы, однако она собиралась обрезать их, не дожидаясь, когда начнет терять эту красоту и обретет — по ее собственному выражению — истинный облик больной раком. Через несколько дней после нашего отъезда Патрис постриг ее наголо. В дальнейшем он повторял эту процедуру еженедельно, аккуратно и осторожно работая машинкой, чтобы кожа на голове не выглядела щетинистой. Стрижка, по его признанию, была для обоих моментом особой близости и нежности. Они приступали к ней только тогда, когда поблизости не было дочерей, и никто не гнал их в шею. Я подумал: «Уединяются, как супружеская пара, чтобы днем заняться любовью».
В отличие от Этьена, который любил поговорить о сексе, предварив его условием, чтобы разговор того стоил, но при этом никогда не допускал вольностей, Патрис был довольно стеснительным человеком, поэтому, перелистывая листы одного из его комиксов с грациозными принцессами и доблестными рыцарями, я с удивлением заметил изображение ангела с четко прорисованным членом. На мой вопрос он без смущения ответил, что во время беременности Жюльетт и после рождения Дианы они не занимались любовью, желание вновь пробудилось ближе к осени, чему они оба были очень рады, но потом у Жюльетт начались проблемы со здоровьем: постоянная усталость, затрудненное дыхание, эмболия, ну, и все остальное… Последний раз они занимались любовью сразу же после того, как Жюльетт сообщили, что у нее рак. Все получилось как-то неловко, не согласованно, словно впервые. Патрис боялся сделать ей больно. Он не знал, что это был их последний раз. Помимо секса как такового, между ними с самого начала установились отношения совершенно особой нежности и гармонии. Они постоянно стремились к физическому контакту, даже ложась спать, тесно прижимались друг к другу, как ложки в футляре. Стоило одному повернуться на другой бок, как второй во сне поворачивался тоже, она подтягивала ноги руками, и они снова оказывались в прежней позе, только перевернутой: засыпая, Патрис прижимался к спине жены, а когда просыпался, оказывалось, что уже Жюльетт льнет к нему сзади, подтянув колени к его согнутым ногам. С осложнением болезни это стало невозможным: появился кислородный баллон, Жюльетт должна была спать полусидя, и спальня выглядела, как больничная палата. Им обоим очень не хватало той ночной близости, ставшей привычной за годы совместной жизни, но они по-прежнему держались за руки, стремились прикоснутьсядруг к другу в темноте и, не смотря на то, что площадь такого контакта сильно сократилась, Патрис не мог припомнить ни одной ночи, чтобы они не соприкасались хотя бы маленькими участками открытого тела.
Медики подвели первый итог в конце февраля, и им пришлось признать, что результат лечения был неутешительным. Новые метастазы не появились, рак не прогрессировал, но и не отступал. «Неприятно то, — сказал лечащий врач, — что клетки размножаются слишком быстро». Откровенно говоря, от лечения семья ожидала большего, тем не менее, его решили продолжать, хоть и без особой надежды на успех, а по мнению Жюльетт отчасти еще и потому, что никто не мог предложить ничего другого.
По дороге домой она заявила Патрису, что ей надоело обманывать себя. Пришла пора готовиться к неизбежному.
~~~
Жюльетт не скрывала свою болезнь от окружающих. Немного оправившись после эмболии, она сказала соседке Анне-Сесиль: «Ты знаешь, я очень испугалась: все, что произошло, было очень серьезно. Ты должна знать: я рассчитываю на тебя в том, что касается моих девочек». Через месяц, когда диагноз был окончательно поставлен, она без обиняков сообщила друзьям: «У меня рак, я не уверена, что выкарабкаюсь, и мне может понадобится ваша помощь». Вместе с двумя другими семейными парами из Розье — Филиппом иАнной-Сесиль, Кристин и Лоран, они жили маленькой сплоченной группой. У всех были дети одного возраста, да и образ жизни ничем не отличался. Все приехали в Розье из других мест; собственно говоря, коренных жителей в деревне можно было пересчитать по пальцам, поэтому приезжие уживались тут без особых проблем. Подобные сообществая уже видел в Жексе и, заходя на чашечку кофе то к одним, то к другим в новые дома, обставленные в незатейливом веселом стиле, с почтовыми ящиками, украшенными смешными картинками Патриса на тему «нам не нужны ваши рекламные листовки», мог представить, будто вернулся в те времена, когда собирал свидетельства друзей Флоранс и Жан-Клода Романа. Во дворах готовили барбекю, присматривали за детьми друг друга, менялись DVD-дисками: боевики для мальчишек, романтические комедии для девочек. Патрис и Жюльетт смотрели фильмы на экране своего компьютера, потому что — единственные в деревне — не имели телевизора. Такой вызов, унаследованный от семьи Патриса, периодически становился объектом шуток в кругу друзей, как и склонность Патриса воспринимать буквально то, что говорилось в переносном смысле. Вместе с Филиппом они составляли забавный дуэт: фальшивый циник и идеалист-мечтатель, и Патрис с улыбкой признавал, что иногда добавлял чуждых ему ноток в манеры пса Рантанплана[55].
За несколько недель до того, как Жюльетт сообщила о своей болезни, Анна-Сесиль объявила, что она ждет ребенка. Параллельное развитие своей беременности и болезни соседки она вспоминала, как нечто особенно ужасное. Обеих женщин тошнило, только недомогание Жюльетт было связано с химиотерапией. Одна носила в себе жизнь, другая —смерть. Четвертого ребенка Анна-Сесиль и Филипп хотели привезти в обновленный дом, и затеяли большой ремонт. Патрис и Жюльетт тоже планировали убрать перегородки, перекрасить стены, превратить подвальное помещение в настоящий рабочий кабинет. Они вчетвером обсуждали свои планы, разложив на столе чертежи, каталоги и альбомы колеров, но в их нынешнем положении вопрос ремонта потерял актуальность. Анна-Сесиль и Филипп стыдились своего счастья, увеличения семейства и благополучия в то время как на друзей, до сих пор живших такой же жизнью, обрушилось горе. Анне-Сесиль казалось, что на месте Жюльетт она испытывала бы к себе неприязнь, потом случилось быто, что чаще всего в таких случаях и происходит: в общении появляется неловкость, натянутый тон приходит на смену дружескому, визиты становятся все более и более редкими. Но она поняла, что Жюльетт не сердилась на нее за счастье, совсем нет; ее по-настоящему интересовала ее беременность, их планы на будущее, и с ней можно было обсуждать все это, не опасаясь, что такие разговоры покажутся смешными или неуместными, и чтобы быть полезной не нужно ходить с грустным видом.
Как-то раз Патрис и Жюльетт неожиданно зашли к ним поздним мартовским вечером, возвращаясь из Вьена после ужина в китайском ресторане: съездить в город немного развеяться их уговорили приехавшие на несколько дней Жак и Мари-Од, они же остались присматривать за девочками. В гостиной разожгли камин, и Анна-Сесиль предложила гостям легкого шампанского, а Филипп виски. Жюльетт выждала, когда все рассядутся, и сообщила, что результаты ее последних анализов оставляют желать лучшего, в связи с чем они с Патрисом обсудили за ужином два важных вопроса и теперь она хотела бы вернуться к ним снова. Первый касался ее похорон. Анне-Сесиль и Филиппу хватило такта,чтобы удержаться от протестующих криков и ненужных возражений, и я уверен, что Жюльетт была им признательна за это. «Патрис в Бога не верит, — сказала она, — что касается меня, то я даже не знаю, это все сложно, но вы — настоящие католики. Из всех наших друзей — только вы верующие, и мне нравится, как вы живете с вашей верой. Я подумала и скажу вот что: похороните меня по-христиански. Во-первых, сама церемония выглядит не так мрачно и позволит людям собраться вместе, во-вторых, похороны станут тяжелым ударом для моих родителей, я не могу взваливать все хлопоты на их плечи. Поэтому мне бы хотелось, чтобы похоронами занялись вы. Согласны?» «Согласны», — ответила Анна-Сесиль невыразительным голосом, а Филипп с серьезным видом добавил: «Сделаем, как для себя».
«Хорошо, тогда перейдем ко второму вопросу. Я знаю, что после моей смерти у Дианы не останется обо мне сознательных воспоминаний. Амели будет меня помнить, кое-что сохранится в памяти у Клары, а у Дианы — нет, и мне больно осознавать это. Патрис фотографирует, конечно, но ты, Филипп, делаешь это как настоящий профессионал. Я прошу,чтобы в оставшееся время ты снимал меня как можно больше. Возможно, в куче снимков потом найдется несколько приличных фотографий».
Филипп согласился и сделал, что мог. «Самым страшным, — вспоминает он, — было то, что наведенный на нее фотоаппарат отныне означал: ты скоро умрешь».
Нужно было успеть завершить все дела, как накануне судебных вакансий, и Жюльетт боялась, что ей не хватит времени. Она не знала, сколько ей еще оставалось, но справедливо полагала, что совсем немного. Она распределила обязанности между друзьями, заручившись их поддержкой, и больше к этой теме не возвращалась. Филипп отвечал за фотографии и отпевание. Анна-Сесиль была логопедом, поэтому на нее возлагалась обязанность исправить дикцию Клары, а Кристин, преподаватель колледжа, отвечала за учебу в школе. Лоран занимал пост начальника отдела кадров на предприятии, и на него возлагались обязанности советника по денежным вопросам: пособие по случаю смерти, кредит на дом, социальное обеспечение и страхование Патриса и дочерей — эти вопросы беспокоили Жюльетт больше всего. Вместе с Лораном они изучили два варианта: скоропостижная кончина и смерть после продолжительной болезни. Второй вызывал у нее большие сомнения с финансовой точки зрения: пособия по продолжительной болезни предполагают понижение заработной платы, тогда как семейный бюджет уже и так трещал по швам. Тут можно было сжульничать: выйти на неделю на работу, потом снова уйти на больничный или работать на четверть ставки по медицинским показаниям, но Жюльетт боялась, что у нее не хватит на это сил. В случае ее смерти кредит на дом будет погашаться по страховке, и член совета кассы взаимопомощи органов юстиции, к которому Жюльетт ездила в компании с Лораном, сообщил им, что Патрис будет обеспечен в течение двух лет. А потом?
Мужа она тоже готовила к жизни без нее. Сначала Патрис отказывался от разговоров на эту тему, считая их нездоровыми, но вскоре заметил, что они шли на пользу обоим: беседы снимали напряжение, и после них Жюльетт становилась заметно спокойнее. В том, как они садились за стол при свете настольной лампы, чтобы поговорить о жизни после смерти Жюльетт, было нечто совершенно ирреальное, вместе с тем, такие разговоры проходили в атмосфере удивительной супружеской нежности. Так сложилось, что в их семье она работала вне дома, а он занимался хозяйством. В любых аспектах домашнего быта Патрис не нуждался в советах и указаниях, тем не менее, Жюльетт все держала под контролем, как чересчур въедливый домовладелец, указывающий будущему квартиросъемщику где что в доме ставить, по каким дням выносить мусор и когда возобновлять договор на обслуживание бойлера. Самым тяжелым стал день, когда Жюльетт затронула вопрос летних каникул. Она их уже организовала таким образом, чтобы девочки провели по нескольку недель в каждой из двух семей. Она считала, что было бы неплохо, если Патрис какое-то время поживет один и отдохнет: это лето для него станет крайне тяжелым. Поняв, что речь идет о предстоящем лете, Патрис, как показалось Жюльетт, едва сдержал слезы. Она взяла его за руку и пояснила, что сказала так на всякий случай, но ее отговорка никого не могла обмануть.
Мне вспомнилось прошедшее лето, когда Патрис рассказал мне про этот случай. Мы забрали к себе на неделю Клару и Амели, как того хотела Жюльетт, и приложили максимум усилий, чтобы развлечь девочек. Клара практически не отходила от Элен, а Амели начала писать роман, исписывая каллиграфическим почерком страницы толстой переплетенной тетради; героиней была, конечно же, прекрасная принцесса, а первая страница начиналась со слов: «Жила-была мамочка, и было у нее три дочери». Внезапно образы-воспоминания предстали передо мной как предвидения: велосипедные прогулки, купания, ласки, пропитанные печалью, — все это несколько месяцев тому назад придумала Жюльетт и подвела черту: «Меня больше не будет. Это лето мои девочки впервые проведут без меня».
Во время моей «стажировки» в суде малой инстанции мадам Дюпраз, секретарь суда, с которой лучше всего ладила Жюльетт, рассказала мне об опеке над несовершеннолетними, этими вопросами они обе занимались по вторникам. Когда один из родителей в семье умирает, оставляя наследство детям, на судью по делам опеки возлагаются обязанности по защите интересов детей, то есть он должен контролировать использование денежных средств вторым родителем. Судья обязан известить его об этом через месяц или два после смерти супруга, однако кое-кто принимает требование закона в штыки, считая это вмешательством в жизнь семьи. Суть состоит в том, что вдовец или вдова не имеют права снять ни гроша со счета своего ребенка без разрешения судьи. Банки еще строже соблюдают это правило, потому что в случае его нарушения будут обязаны возместить соответствующую сумму по решению суда. В большинстве случаев вопросов не возникало, и Жюльетт быстро привыкла подписывать целые пачки постановлений в июне— перед каникулами и в декабре — перед Рождеством. Но бывают случаи, когда граница между интересами ребенка и взрослого довольно размыта. Можно разрешить ремонт кровли, потому что для ребенка лучше, когда ему на голову не капает вода с крыши. Но для него также лучше, когда отца не преследуют судебные исполнители; означает ли это, что капитал ребенка может использоваться для погашения родительских долгов? Мнение судьи зависит от его способности оценить ситуацию, кроме того, ему требуется немало такта, чтобы вынести взвешенное, разумное решение. «В этой чрезвычайно человечной области права Жюльетт не было равных», — сказала мне мадам Дюпраз. Кстати, с ней уже приходилось иметь дело Патрису и, несомненно, она думала именно о нем, когда вспоминала некоего молодого человека, приходившего к ним в суд, чтобы открыть дело. Мужчина только что потерял жену и остался с двумя маленькими детьми на руках, но то, как он говорил о покойной супруге и детях, с каким благородством и душевной простотой нес бремя своего горя, потрясло и судью, и секретаря чуть ли не до слез. В довершение к этому он был красив, настолько красив, что у Жюльетт и мадам Дюпраз вошло в привычку шутить: «Ах, того красавчика следовало бы вызывать почаще». Я сразу подумал, а вспоминала ли Жюльетт, пока была жива, эпизод с молодым вдовцом, таким красивым, добрым и беспомощным; представляла ли себе разговор, что состоится у Патриса через два-три месяца после ее смерти в кабинете, ранее принадлежавшем ей; предвидела ли, какое впечатление произведет ее супруг на хозяина этого кабинета? Несомненно.
Филипп, взявший за привычку два или три раза в неделю бегать по утрам, уговорил Патриса присоединиться к нему: бег поможет избавиться о дурных мыслей. Они не столько бегали, сколько трусили по проселкам вокруг Розье: во-первых, Патрису не хватало физической подготовки, а во-вторых, они могли поговорить по душам. Патрис доверял Филиппу то, что не осмеливался сказать Жюльетт. Он упрекал себя за то, что недостаточно хорошо поддерживал ее, а иногда даже сбегал в свой подвал. Тяжело находиться в доме все время только вдвоем: Жюльетт лежала на диване в гостиной рядом с кислородным баллоном, пыталась читать, дремала, боролась с недомоганием и, в общем-то, не нуждалась в его присутствии, а он спускался в полуподвальную комнату, служившую ему мастерской, пытался работать, но вскоре переключался на компьютерные игры, позволявшие на время отключиться от реальности. Иногда к нему присоединялся тринадцатилетний Мартен, сын Лорана и Кристин, и тогда они часами летали на самолетах или огнем из базук в пух и прах разносили бесчисленные орды врагов. Жюльетт не нравилось, что он убивает время таким образом, вместе с тем, она понимала, что такая отдушина ему необходима. Стоило выключить компьютер, как на Патриса наваливались страх, сожаление, стыд, безграничная любовь, а потом появлялись вопросы, не имевшие ответа. Но уже не «неужели она умрет?», а «когда она умрет?» Можно ли было что-то сделать, чтобы этого не случилось? Что изменилось бы, если бы опухоль обнаружили раньше? Было ли первое заболевание раком каким-то образом связано с Чернобылем, а второе — с высоковольтной линией, проходившей в пятидесяти метрах от их старого дома? Очень тревожную статью по этому поводу он прочитал в журнале «Нет ядерной энергетике». Вообще, подобный вздор — как говорили родители Жюльетт — выводил их из себя, поэтому Патрис предпочитал не говорить на эту тему вслух, но серьезных сомнений от этого у него не убавлялось.
Филипп, слушая откровения Патриса, начинал беспокоиться. Он опасался, что тот не выдержит удара, и смерть Жюльетт окончательно сломает его. Филипп и сам сомневался,что перенес бы такое несчастье: если бы Анна-Сесиль умерла, для него вместе с ней умер бы весь мир. Но теперь он с восхищением видит, что Патрис справляется с горем и продолжает управлять своей жизнью, а тем, кто удивляется, глядя на него, отвечает: «Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Мне нужно вырастить трех дочерей, и я их ращу». Его очень редко можно видеть в унынии. Он держится. «Браво!» — говорит Филипп.
Если не считать задач, поставленных друзьям, Жюльетт почти не раскрывалась перед ними, иными словами — не говорила бесполезных пустяков, никого не интересующих и ни к чему не обязывающих. В ее понимании это значило жаловаться, а жаловаться она не хотела. Днем, когда Анна-Сесиль или Кристин забегали к ней выпить чашечку чая и поболтать, она говорила, что дни тянутся страшно медленно, и она проводит их то на диване, то в кресле, будучи не в силах избавиться от мучительной тошноты; что у нее нетсил читать, разве что посмотреть иногда какой-нибудь фильм; что жизнь скукоживается, и это уже не смешно. Тут Жюльетт ставила точку: а зачем говорить что-то еще? Ее беспокоило другое: она больше не могла заниматься с девочками, как прежде. С мыслью съездить во Вьен и посмотреть, как танцует в театре Амели, пришлось распрощаться —у Жюльетт не оставалось сил даже почитать дочкам перед сном. Вместо того, чтобы пользоваться этими моментами, а они, несомненно, были последними в их совместной жизни, по вечерам ей хотелось только одного: чтобы девочки угомонились, и Патрис уложил их спать. От бессилия Жюльетт хотелось плакать. И она, никогда не повторявшая свои наказы дважды, без конца переспрашивала: «Ты им расскажешь обо мне, да? Ты им расскажешь, как я боролась? Что я делала все, что могла, лишь бы не оставить их?»
Она также беспокоилась о родителях. Если бы это зависело только от них, они перебрались бы в Розье, чтобы, по меньшей мере, быть рядом с дочерью, поддержать ее и окружить заботой, но уже через несколько дней Жюльетт хотелось, чтобы родители уехали. Как ни старались Жак и Мари-Од, но их косые взгляды вслед Патрису причиняли ей боль, дискомфорт мужа унижал ее, наконец, им совсем не подходила жизнь в деревне. Их присутствие превращало ее в ту девочку-подростка, которую спасали от рака пятнадцатьлет назад, но она больше не хотела ею быть. Слова «моя семья» означали для Жюльетт семью, созданную ею, а не ту, где она появилась на свет. Времени и сил у нее оставалось все меньше, она жила той жизнью, что выбрала для себя сама, а не той, что досталась ей по наследству. Тем не менее, она любила родителей и знала, как глубоко они страдают в бессильном ожидании ее смерти. Жюльетт хотела бы помочь им выдержать это испытание, но не знала, как. И уж тем более этого не знали ни Кристин, ни Анна-Сесиль.
Подруги пытались поговорить с ней по душам, но стоило им лишь намекнуть на страх, который должна вызывать у нее болезнь, как Жюльетт тут же пресекала подобные попытки: «Нет, все в порядке. На это у меня есть Этьен».
Однажды я сказал Этьену: «Я совершенно не знал Жюльетт, скорбь ее близких — не моя скорбь, у меня нет никаких прав писать о ней». Он ответил: «Как раз это и дает тебе полное право, со мной, в некотором смысле, было то же самое. Ее болезнь не была моей болезнью. Когда она сообщила, что у нее рак, я подумал: „Уф! Хорошо, что не у меня“, но, возможно, именно потому что я так подумал, не постыдился так подумать, я смог ей хоть немного помочь. В какой-то момент, чтобы стать ближе к ней, я захотел вспомнить про свой второй рак, про страх смерти и ужасающее одиночество, но у меня ничего не вышло. Конечно, я мог думать об этом, но прочувствовать заново — нет. Тогда я сказал себе: „Тем лучше. Умрет-то она, а не я“. Ее смерть потрясла меня, как ничто другое в моей жизни, но верха надо мной не взяла. Я был перед ней, рядом с ней, но на своем месте».
Этьен никогда не звонил Жюльетт, инициатива всегда принадлежала ей. Он не успокаивал ее, но она могла говорить все, не опасаясь сделать ему больно. Все — это страх. Моральный страх охватывал ее, когда она представляла мир, в котором ее нет, когда понимала, что никогда не увидит, как вырастут ее дочери. Физический страх также проявлял себя все чаще и чаще. Само тело восставало против приближающегося конца. Страх возникал всякий раз, когда результаты анализов свидетельствовали об ухудшении состояния: Жюльетт пыталась внушить себе, что других новостей, кроме плохих, уже не будет, но это не помогало. Страх не покидал ее и в ходе лечения: бесконечные страдания ни к чему не вели, надежд на выздоровление не было, процедуры лишь продлевали мучительное существование. В апреле она сказала Этьену: «Я так больше не могу, это выше моих сил, я сдаюсь». Он ответил: «Имеешь право. Ты сделала все, что могла, никто не в праве требовать, чтобы ты продолжала бороться. Сдавайся, если хочешь».
Слова Этьена пошли ей на пользу. Жюльетт хранила их про запас, словно ампулу с цианидом на случай пыток, и продолжала борьбу. Она полагала, что почувствует облегчение в тот день, когда медики скажут: «Вы знаете, мы больше ничего не можем для вас сделать, поэтому оставляем вас в покое», и была удивлена, насколько тяжело воспринялаэто известие, когда роковой день наступил. Врачи сообщили, что прекращают герцептиновую терапию, отрицательно влиявшую на работу сердца и, насколько позволяли судить постоянные наблюдения, не оказывавшую никакого положительного эффекта. Все произошло не совсем так, как представляла Жюльетт, но означало одно: врачи опустили руки. Если раньше она рассчитывала, что протянет еще несколько месяцев, то теперь поняла: речь идет уже о неделях, а то и днях.
~~~
Сразу после отмены герцептина у нее с Патрисом состоялся жаркий спор насчет референдума по Европейской Конституции. Патрис высказывался в пользу отрицательного ответа, он даже забросил компьютерные игры, отдавая предпочтение интернет-форумам. Это увлечение стало для него новым наркотиком. Он поднимался из подвала с распечатанными и помеченными маркером документами, скачанными с сайта АТТАС. Мы можем и должны, утверждал он, сопротивляться безраздельному господству либерализма, извращенно представленного обществу как неизбежность. Жюльетт слушала его, но свое мнение держала при себе, а он помнил ее молчание в период первой войны в Персидском заливе, когда они только встретились. Патрис выступал против интервенции, разоблачал махинации средств массовой информации и, поскольку Жюльетт молчала, полагал, что она разделяет его взгляды, однако, оказавшись прижатой к стеке, она была вынуждена признать, что это не так. Она предпочитала занимать нейтральную позицию до тех пор, пока не разберется с собственными мыслями. Патрис словно с неба свалился. Почему она не сказала раньше? Почему бы им не обсудить эту тему? Ответ был прост: она прекрасно знала, что он не изменит свою точку зрения, и не видела смысла спорить впустую. То же самое произошло в мае 2005 года. Каждый дулся на семью другого, кроме того, Патрис злился — и не безосновательно — на влияние Этьена. Дошло до того, что Жюльетт пожелала ему встретить после ее смерти клевую красотку-антиглобалистку вместо больной раком плаксивой тетки с правыми взглядами. Патрис рассказал мне о последней ссоре лишь потому, что я спросил, как он видит свою будущую жизнь с романтической точки зрения. Мой вопрос заставил его задуматься, но отнюдь не шокировал. Возможно, Жюльетт была права, возможно, он начнет жизнь заново с какой-нибудь красоткой-антиглобалисткой, почему бы нет? Этого не миновать. Но что ему особенно нравилось в Жюльетт, так это то, что при нормальных обстоятельствах он бы не видал ее, как своих ушей. Она постоянно подталкивала его, выбивала из привычной ему колеи. Она воплощала собой различие, неожиданность, чудо — все, что случается лишь один раз в жизни, даи то, если повезет. «Именно поэтому я не собираюсь жаловаться, — заключил Патрис, — мне крупно повезло».
В среду 9 июня он взял в видеосалоне Вьена фильм Аньес Жауи «Посмотри на меня». Уложив дочерей спать, Патрис поставил компьютер на подставку для ног перед диваном в гостиной, и они с Жюльетт с удовольствием окунулись в события, происходившие на экране. Жюльетт сидела в кислородной маске, но чувствовала себя вполне сносно. К концу фильма она задремала на плече у супруга, что случалось теперь почти каждый раз, когда они смотрели кино или он читал ей вслух. Патрис сидел, не шевелясь, опасаясь разбудить жену. За эти минуты покоя, когда он прислушивался к ее дыханию и ему казалось, что одним лишь своим присутствием он защищает ее, он был готов еще долго жить такой жизнью, какой бы ужасной она не представлялась. Даже всегда. С тысячей предосторожностей Патрис перенес Жюльетт в спальню и уложил в постель. Потом задремал, держа ее руку в своей. В четыре часа утра больную разобрал внезапный неукротимый кашель. Она не могла дышать, не помогал даже дыхательный аппарат, настроенный на интенсивную подачу кислорода. Глядя на Жюльетт, можно было подумать, что она тонет. Как и в декабре, Патрис позвонил в скорую, потом Кристин, чтобы она пришла присмотреть задетьми. Кристин хотела войти в комнату, пока не прибыли врачи, но Жюльетт замахала рукой: «Нет, нет, не надо». Кристин по сей день сожалеет, что не ушла с дороги санитаров, когда те несли Жюльетт на носилках: оказавшись с ней совсем рядом, она, как ей кажется, нарушила желание подруги: Жюльетт не хотела, чтобы ее видели в таком состоянии. Патрису Кристин сказала, чтобы он ни о чем не беспокоился и оставался в больнице столько, сколько понадобится. В реанимационном отделении уровень насыщения кислородом у Жюльетт пришел в норму, но она продолжала задыхаться. Ей ввели дозу морфина, и больной стало немного легче. Из правой плевральной полости откачали два литра жидкости, но это ничего не дало. Так прошел четверг. В пятницу утром заведующий онкологическим отделением вошел в палату и с сожалением сообщил, что они больше ничего не могут сделать, защитные резервы организма исчерпаны, и она умрет через несколько дней, а возможно, ближайших часов. Жюльетт ответила, что она готова, и попросила вызвать родителей, брата и сестер, чтобы попрощаться с ними, если они успеют приехать до вечера. Что касается дочерей, то Жюльетт не хотела портить старшим девочкам представление в школе и спросила врача, может ли он сделать так, чтобы на следующий день она была в состоянии повидаться с ними. Врач заверил ее, что это возможно: дозировку морфина изменят таким образом, чтобы она не слишком страдала и при этом оставалась в сознании. Покончив с этим, Жюльетт собрала в палате всю бригаду медиков, лечивших ее с февраля месяца, и каждого в отдельности поблагодарила за заботу. Она не имела к ним претензий из-за неудавшегося лечения и не сомневалась: они сделали все, что было в человеческих силах. Затем она отправила Патриса домой — девочки уже заждались его. Ей осталось только повидаться с Этьеном.
Этьен: «Я был ее старшим братом в плане работы и в плане болезни. Мы шли одной дорогой, только я опережал ее, и мы оба понимали это. Но в ту пятницу именно она стала старше. Она сказала: „Этьен, ты принадлежишь к тем немногим людям, кто придал смысл моей жизни, благодаря им я прожила ее по-настоящему. Думаю, это была хорошая жизнь, даже несмотря на болезнь, и я довольна ею“. Впервые я не нашел, что ей ответить. Она перешла ту грань, за которую я уже не мог ступить. Я спросил: а письмо, ты написала письмо? Мы с ней много говорили о письме, которое она хотела оставить своим девочкам. Какие-то наброски у нее были, но каждый раз, когда Жюльетт бралась приводить их в порядок, она терялась: получалось либо слишком много, либо почти ничего — я вас люблю, я вас любила, будьте счастливы. Она печально покачала головой — нет, не написала. Тогда я предложил ей заняться этим. „Здесь, прямо сейчас?“ „Да, прямо сейчас, а когда еще? Для начала, что бы ты сказала дочерям о Патрисе?“ Говорить ей становилосьвсе труднее и труднее, но Жюльетт ответила без колебаний: „Он был моей опорой. Он нес меня. — Потом, чуть помолчав, добавила: — Он отец, которого я вам выбрала. Вам тоже придется делать в жизни выбор. Вы можете просить у него все, и пока вы маленькие, он даст вам то, что вы попросите, но когда повзрослеете, вам придется выбирать. — Она подумала и закончила: — Все“.
Вернувшись домой, я за пару минут написал письмо и передал его Сесиль, сестре Жюльетт. Потом она сказала мне, что прочитала письмо Жюльетт, и та в знак одобрения кивнула головой. Прежде чем выйти из палаты, я присел на край кровати и взял ее за руку. Мы обменялись рукопожатием шесть лет тому назад, когда она вошла в мой кабинет, и с тех пор до этой пятницы больше никогда не прикасались друг к другу».
Когда Патрис вернулся домой, дети уже были под присмотром его матери: она только что приехала и сменила Кристин. Девочки не выглядели напуганными, они уже привыкли к тому, что их мама время от времени ложится в больницу. Им только хотелось знать, будет ли она дома к школьному празднику. Патрис ответил, что нет, и дочери зашумели: она обещала. Тогда Патрис сказал, что она не вернется, и завтра, после праздника, они все вместе отправятся к ней в больницу. В последний раз, потому что мама умрет. Он держал на руках маленькую Диану и обращался к ней, хотя ей был всего год и три месяца, но сказанное касалось в первую очередь ее старших сестер. Амели и Клара расплакались, раскричались и, перевозбужденные, бесились до самого вечера. Как ни странно, заснули они очень быстро. В понедельник рано утром Патрис поехал в больницу, чтобы успеть вернуться к началу спектакля в школе. За ночь состояние Жюльетт ухудшилось. Она вела себя очень беспокойно: зрачки закатывались, неравномерное хриплое дыхание сотрясало все ее тело. Почувствовав присутствие мужа, она вцепилась в его руку и несколько раз громко произнесла, пытаясь оторвать голову от подушки: «Ну вот, сейчас, уже скоро!» Патрис попытался сказать, что дети приедут навестить ее после праздника, но Жюльетт, казалось, не понимала его и раз за разом повторяла: «Ну вот, сейчас, уже скоро!» Патрис был подавлен: он не хотел, чтобы девочки видели мать в таком состоянии, кроме того, он поверил ей, когда Жюльетт сказала, что не боится смерти. Она заверяла, что самое страшное для нее — оставить их, всех четверых, а смерть: что-ж, она к ней готова. Такой стоицизм был ей свойственен, она хотела, чтобы ее запомнили такой, но теперь Патрис видел страдающего, задыхающегося человека на грани паники. От ясного сознания, безмятежности не осталось и следа. Она теряла над собой контроль. Патрис не узнавал ее, это повергло его в шок, и он побежал к медсестрам. Ему сказали, что больная находится под воздействием атаракса; как было обещано, медперсонал делает все возможное, чтобы к приходу дочерей пациентка была, насколько это возможно, в здравом уме и твердой памяти. Врачи, конечно, старались, но выполнить обещанное в полной мере им все-таки не удалось. Когда Патрис в сопровождении Сесиль привел девочек, Жюльетт балансировала на грани сознания. Говорить нужно было, приблизившись к ней как можно ближе. Ее взгляд на секунду останавливался на говорящем, потом устремлялся в пустоту. Пару раз Жюльетт кивнула головой, что можно было принять за знак согласия. Амели и Клара нарисовали для мамы красивые картинки и принесли видеокассету с записью школьного спектакля, но, несмотря на его важность для девочек и их матери — еще накануне Жюльетт беспокоилась о представлении — Патрис не решился подключить видеокамеру к стоявшему в палате телевизору. Посещение вышло настолько тягостным, что его решили сократить. Клара поцеловала маму, Патрис приложил Диану щечкой к ее лицу, но Амели была так напугана, что прижалась к тетке и не отходила от нее ни на шаг.
В этом месте рассказ Патриса прервало появление Амели: она вошла в гостиную в пижаме, босиком. Отец уже давно уложил ее спать, но она должно быть проснулась и слышала наш разговор через приоткрытую дверь. Это ничуть не смутило Патриса: он начинал свой рассказ о последних днях Жюльетт в присутствии детей и даже не старался говорить тише. Амели стала перед нами и сказала: «Мне еще тяжелее, чем Кларе и Диане, потому что я с мамочкой не попрощалась, но мне было очень страшно». Патрис спокойно ответил, что хоть она и не поцеловала маму, зато поздоровалась с ней, и самое главное — она была в палате, и мама ее видела. По его тону я понял, что они разговаривают на эту тему уже не в первый раз и, пока он снова укладывал дочь в постель, подумал: «Хорошо, что Амели сумела сформулировать и высказать упрек к самой себе. Впоследствии эта вина не сможет отравить ей жизнь неизвестно откуда взявшимися угрызениями совести». И поскольку у меня были веские основания считать справедливой психоаналитическую вульгату о преимуществе слова над губительными последствиями умолчания, я искренне поздравил Патриса, когда он вернулся в гостиную, с его позицией по отношению к дочерям: все вещи должны называться своими именами.
Посещения закончились, и Патрис остался наедине с Жюльетт. Ей стало немного легче, но ясность мысли не вернулась, вопреки его ожиданиям. Вытянувшись на краю постели, он пытался говорить с женой, угадать ее желания. Он дал ей попить, и Жюльетт удалось сделать пару глотков. В какой-то момент ее грудь заходила ходуном, тело судорожно выгнулось, и Патрис подумал, что ее час пробил, но нет, она не умирала, она мучилась от боли. Небытие засасывало ее, но Жюльетт сопротивлялась. Патрис спросил: «Тебестрашно?» Кивком головы она отчетливо ответила — да. «Погоди, — сказал он, — я помогу тебе. Я сейчас вернусь. Только не волнуйся, я вернусь». Он тихонько поднялся с кровати и пошел в кабинет врача сказать, что пришло время помочь ей уйти. Получасом позже с той же просьбой к тому же врачу обратились и мы с Элен. Врач ответил нам, что этим уже занимаются, а еще раньше Патрису: «Хорошо, подождите меня здесь» и вышел, оставив его в кабинете одного на пять минут, которые показались Патрису вечностью. С отсутствующим взглядом Патрис рассматривал плинтус с облупившейся краской, неоновую лампу, потрескивавшую на потолке в окружении роящейся мошкары, смотрел в темноту за окном, и у него возникло ощущение, что это и есть реальный мир, ничего другого нет, не было и никогда не будет. Когда он вернулся в палату, глаза Жюльетт, до того полуоткрытые, были закрыты. Внезапно он испугался, что за время его краткого отсутствия она впала в кому. Что она могла смутно видеть входящего в палату незнакомца — он что-то сделал, то ли укол, то ли поковырялся с капельницей, это уже не важно — и в полубессознательном состоянии подумать: «Он пришел прикончить меня». Что перед тем, как все погрузилось в темноту, ее последней мыслью могло быть паническое: «Я умираю, а Патриса нет рядом». В последующие дни этот страшный, воображаемый сценарий настолько измучил Патриса, что ему пришлось обратиться к врачу, и тот успокоил его: ничего подобного произойти не могло, поскольку действие дозы морфина длитсяболее часа, и Жюльетт уходила в забытье довольно долго.
Он снова вытянулся рядом с ней, на этот раз устраиваясь поудобнее, почти как дома. Жюльетт дышала ровно и, казалось, боли отпустили ее. Она находилась в том сумеречном состоянии, которое в любой момент могло обернуться смертью, и Патрис сопровождал ее до самого конца. Он шептал ей на ушко нежные слова, касался рук, лица, груди, время от времени осыпал легкими поцелуями. Понимая, что Жюльетт была не в состоянии слышать его голос, чувствовать прикосновения, он был уверен, что ее тело все еще улавливает их, что она уходит в небытие с ощущением чего-то знакомого, окруженная теплотой и любовью. Он был рядом. Он рассказывал ей об их жизни, о том счастье, что она ему подарила; как он любил смеяться вместе с нею, говорить обо всем и даже спорить. Он обещал, что будет всегда заботиться об их девочках, и ей не стоит об этом беспокоиться. Он проследит, чтобы дети одели шарфики и не простудились. Он напевал любимые песни Жюльетт, описывал миг смерти, как ослепительную вспышку, непостижимую волну покоя, блаженное возвращение к состоянию чистой энергии. Когда-нибудь он тоже познает все это и соединится с нею. Слова приходили к Патрису легко, он произносил их очень тихо и спокойно, они околдовывали его самого. Жизнь доставляет боль своим сопротивлением неизбежному, но скоро мучениям, порожденным ею, наступит конец. Медсестра сказала ему: «Те, кто борется за жизнь, умирают быстрее». «Если это тянется так долго, — размышлял он, — значит, Жюльетт прекратила бороться, и то, что еще живет вней, остается спокойным и заброшенным. Не борись больше, любимая, хватит, пусть все идет своим чередом».
Тем не менее, ближе к полуночи Патрис подумал, что оставаться ей в таком состоянии еще и завтра просто невозможно. «В четыре часа утра, — решил он, — я отключу дыхательный аппарат». Но уже в час ночи Патрис почувствовал, что больше не может ждать. Ему казалось, что он ощущает нетерпение Жюльетт, и потому отправился к дежурной медсестре, чтобы спросить, нельзя ли отключить пациентку от аппарата, ибо, по его мнению, для этого наступил подходящий момент. Но медсестра не согласилась с ним и предложила оставить все, как есть. Потом Патрис заснул. Около трех утра его разбудил рокот вертолета, почему-то надолго зависшего над больницей. Патрис перевел взгляд набудильник. Без четверти четыре дыхание Жюльетт, и без того едва ощутимое, остановилось. Патрис настороженно замер, но ничего не происходило, сердце Жюльетт больше не билось. Похоже, она догадалась, что муж хотел сделать в четыре часа утра, и избавила его от этого шага.
Патрис все говорил, говорил, и у меня сложилось впечатление, что он не хочет заканчивать свой рассказ.
«Мне не пришлось закрывать ей глаза. Я смотрел на нее и видел прекрасное просветленное лицо — совсем не такое, как в последние дни. Я думал: „Это моя жена, и она умерла. Моя жена умерла“. Лежа рядом, я чувствовал, как уходит ее тепло, и удивился, что это происходит так быстро. Через четверть часа от нее веяло холодом. Я поднялся, оповестил медсестер, позвонил Сесиль — она всю ночь ждала известий, потом вышел из больницы и несколько раз прошелся вокруг здания. Небо на востоке чуть посветлело, облака над городом окрасились в нежный розовый цвет. Я чувствовал облегчение от того, что все закончилось, но самое главное — в этот момент я испытывал невыразимую нежность к Жюльетт. Не знаю, как это сказать, слово нежность кажется мне не совсем точным, но то, что я чувствовал, было гораздо сильнее и значительнее, чем любовь. Спустя несколько часов, находясь в траурном зале, я больше не испытывал этого чувства: любовь — да, но той вселенской нежности уже не было».
~~~
В пятницу, расставаясь с Жюльетт, Этьен спросил, как ему поступить: приехать к ней снова или оставаться на связи. Она предпочла последнее. Этьен провел всю ночь в ожидании звонка, предполагая, что она больше не позвонит: они сказали друг другу все, что хотели; теперь рядом с ней оставалось место только для Патриса. Утром Этьен сел на автобус, идущий до больницы, но, не доехав двух остановок, сошел и вернулся домой. Субботу он провел в кругу семьи, сходил с детьми за покупками в «Декатлон», попытался занять себя работой. Жюльетт просила, чтобы его оповестили в случае ее смерти, и в пять утра ему позвонила мать Патриса. Этьен вспоминает, что здорово рассердился на нее за ранний звонок, но еще больше его возмутили слова «Жюльетт ушла» вместо «Жюльетт умерла». Он буркнул: «Да знаю я, знаю» и на предложение приехать попрощаться с покойной в траурном зале ответил отказом, мол, это его не интересует.
На следующий день после моего долгого ночного разговора с Патрисом мы с Этьеном пообедали во Вьене, и он вместе со мной поехал в Розье. Едва мы вышли из вагона, как он тут же сообщил, что возвращается домой. Они с Патрисом не виделись со дня похорон, между ними ощущалась какая-то натянутость, но я предложил сварить кофе и выпить по чашечке во дворе, в тени катальпы, где мы провели, в конце концов, почти весь день, испытывая удовлетворение от состоявшейся встречи.
Мне запомнились два момента той встречи.
Патрис рассказывал, как он с детьми учится жить без Жюльетт. «Ее энергия поддерживает меня, — говорил он, — но потом вдруг наступает какой-то период, когда я ее больше не ощущаю. Особенно трудно по ночам. Сначала я думал, что никогда не засну без Жюльетт, мне все время казалось, что я чувствую ее рядом. Просыпаюсь, а ее нет, и я понимаю, что пропал, окончательно пропал. Мало-помалу я привык к этому ощущению. Знаю, что постепенно оно исчезнет. Придет такой день, когда целых пятнадцать минут я не буду думать о Жюльетт, потом час… Я пытаюсь объяснить это девочкам… Когда я говорю им, что нам повезло с мамой, мы любили ее, и она любила нас, Клара отвечает, что больше всего повезло Амели, потому что она была с мамой дольше всех, а потом Диане, потому что она еще ничего не понимает, а раз так, то именно ей из них троих тяжелее всего… Несмотря ни на что, мне кажется, что дела у нас четверых идут хорошо. Думаю, мы справимся. А ты как?»
Патрис повернулся к Этьену. Вопрос явно застал того врасплох.
«Что, я?»
«Да, — кивнул Патрис, — как у тебя складывается жизнь без Жюльетт?»
Этьен потом признался мне, что был шокирован и потрясен таким вопросом: получается, что он тоже должен был соблюдать траур, то есть вдовец практически ставил их на одну доску. В глубине души он считал это правомерным (заметка Этьена: «Не совсем так: я считал правомерным иметь какое-то место»), но никогда не стал бы претендовать на подобное равенство. Однако силу своего невероятного великодушия Патрис признал за ним такое право, как нечто само собой разумеющееся.
«У меня? — со смешком переспросил Этьен. — Да очень просто. Больше всего мне не хватает общения с Жюльетт. Это очень эгоистично с моей стороны, но, как обычно, в подобных ситуациях я думаю прежде всего о себе и о том, что есть вещи, о которых я не скажу больше никому до самой смерти. Вот так. Человека, с кем я мог говорить о них, не опасаясь превратить разговор в мелодраму, больше нет».
Позднее, в память о Жюльетт, Патрис занялся составлением слайд-шоу для семьи и друзей. В первую очередь он выбрал очень большие снимки, потом взялся за более скромные. Некоторые фотографии не вызывали сомнений, по поводу других он долго колебался. Ему было тяжело отказаться от любой из них, потому что каждый раз у него возникало впечатление, будто он обрекает на забвение какой-то миг их жизни. За этим спокойным и в то же время печальным занятием Патрис проводил вечера в своей мастерской после того, как укладывал дочерей спать. Он любил эти моменты и не торопился заканчивать работу над слайд-шоу, ибо понимал: как только он все сделает, скопирует и разошлет адресатам, будет пройдена некая точка, а ему вовсе не хотелось приближаться к ней, во всяком случае, не так скоро.
«Напоминает письмо, что хотела написать Жюльетт детям, — заметил по этому поводу Этьен. — Она все собиралась взяться за него и в то же время оттягивала этот момент, потому что знала: как только она поставит точку, ей больше нечего будет делать».
Мы замолчали. На другой стороне площади зазвенели детские голоса — закончились занятия в школе. Через несколько минут Амели и Клара вернутся домой, их надо будет покормить, потом идти за Дианой. Молчание нарушил Этьен: «Есть фотография, которая не может попасть в твое слайд-шоу, потому что она не существует. Но если бы мне пришлось выбирать, я взял бы себе на память лишь ее одну. Помнишь, как-то раз мы вчетвером ездили в театр в Лион. Ты с Жюльетт и я с Натали. Мы приехали чуть раньше и ожидали вас в фойе. Мы видели, как вы вошли в холл, как поднимались по парадной лестнице. Ты нес Жюльетт на руках. Она обнимала тебя за шею и улыбалась, однако больше всего потрясало то, что она выглядела не просто счастливой, а невероятно гордой, как и ты сам. Все смотрели на вас и расступались, уступая дорогу рыцарю с принцессой на руках».
Патрис помолчал, потом улыбнулся — чуть удивленно и вместе с тем мечтательно, как бы признавая очевидное: «Как странно, что ты сказал это сейчас. Я всегда любил носить людей… Даже в детстве таскал на руках младшего брата. Я сажал малышей в тачку и катал их или же устраивал их у себя на плечах…»
Сидя в поезде, уносившем меня в Париж, я размышлял, существует ли формула, столь же простая и точная — он любил носить, ему пришлось ее носить, — для определения сути отношений, объединявших меня и Элен. Ничего подходящего в голову не приходило, но я убедил себя, что когда-нибудь такая идея все же появится.
~~~
К тому времени, как я вернулся из Розье, груди Элен набухли, и она объявила мне о своей беременности. Мне следовало радоваться, но я испугался. Единственное объяснение этому страху я видел в том, что не чувствовал себя готовым к переменам: существовало слишком много препятствий, слишком много нерешенных вопросов. Чтобы снова стать отцом в том возрасте, когда жизнь переваливает за экватор, нужно быть самому примерным сыном, а таковым я себя не считал. Но мне удалось перебороть себя: несмотряна смятение, я решил, что лучше сказать «да», чем «нет», и более-менее сознательно, наугад, начать работать над собой. Мой проект отступил на второй план, я позвонил Этьену и Патрису и предупредил их, что прекращаю заниматься книгой, но, возможно, вернусь к ней позже. В последнем я сильно сомневался. Этьен ответил: «Тебе виднее». Я сразу же принялся писать о самом себе, о своих прежних неудачах на сердечном фронте, о призраке, неотвязно преследовавшем мою семью, и которому я хотел найти место упокоения. Обдумывание книги затянулось до конца беременности Элен. Сказать, что эти месяцы были трудными, значит не сказать ничего. Но почти сразу же после рождения Жанны у меня окончательно сложилось представление о будущей книге, и как-то внезапно свершилось чудо: исчез лис, пожиравший мои внутренности, я был свободен. Весь год я просто наслаждался жизнью и наблюдал, как растет наша дочь. Никаких идей на будущее у меня не было, но это меня совсем не волновало. Фрейд определял психическое здоровье как способность любить и работать. Мне всегда нравился такой подход, даже если суть его казалась мне недостижимой. Я был способен любить, еще больше — принимать чужую любовь, а работа приходила сама по себе. Этой весной почти случайно, без всякой задней мысли, я начал перебирать свои записи о Шри-Ланке, а заодно заглянул в блокноты с заметками об Этьене, Патрисе, Жюльетт и праве потребителей. Я вернулся к работе над этой книгой спустя три года после рождения ее замысла, и закончил спустя три года после того, как отказался от проекта.
На этот раз я решил дать прочитать текст героям книги до ее публикации. Я уже поступал так с Жан-Клодом Романом, предупредив, что «Изверг» закончен, и я не изменю в нем ни строчки. Что касается «Русского романа», то вынести его на одобрение моей матери и Софи было равносильно тому, что бросить книгу в костер: я не мог позволить себе такой роскоши, и потому поставил их перед свершившимся фактом, о чем ни капли не сожалею — это спасло мне жизнь. Но сейчас я так больше не сделаю. Элен стала первымчитателем этих страниц. Она разрешила мне взяться за повесть о ее сестре, но чем ближе был финал, тем больше она опасалась того, что же я напишу о Жюльетт. Она никак не могла поверить в ее смерть, даже говорить о ней не хотела и, возможно, упрекала себя в недостаточном общении с сестрой. Когда Элен закончила чтение, мы оба испытали облегчение, и я отправил текст Этьену и Патрису. В отличие от Романа, им я сообщил, что они вправе просить что-то добавить, убрать или изменить в тексте, и я это сделаю.Такое обязательство беспокоило Поля, моего издателя. «Такого не бывает, — напоминал он, — чтобы кто-то заявил, будто доволен тем, как его изобразили в книге: стоит твоим героям внести правки, и в книге ничего твоего не останется». В данном случае он ошибался, и мой последний визит в Лион и Розье стал для меня и, полагаю, для них самым волнующим моментом всей нашей затеи. Я чувствовал себя, как художник-портретист, который показывал свое полотно модели в надежде получить одобрение. Так оно и случилось. Этьен заметил: «Есть кое-что, с чем я не совсем согласен, но уточнять детали не стану из опасения, что ты все поправишь. Я хочу, чтобы это была твоя книга, и вцелом мне нравится тот тип, что носит мое имя. Скажу больше — я даже горжусь этим». Он ничего не требовал убрать, только попросил добавить некоторые детали: рассказывая об обращении тройки Жюльетт-Этьен-Флоре в Европейский суд, я не упомянул об эксперте в области права сообщества Бернадетт Ле Бо-Феррарез. Ее помощь была неоценимой, и Этьен считал несправедливым ее отсутствие на «общем фото». Патрис считал, что я преувеличил значение их с Жюльетт политических разногласий. Он без конца возвращался к этой теме, аргументировал, уточнял, поправлял. Его ничуть не беспокоило, что в книге он выглядел наивным леваком, но он ни за что не хотел, чтобы читатель принял Жюльетт за сторонницу правых сил. У меня даже возникло впечатление — и оно просто потрясло меня, — что на страницах моей книги он продолжает страстный спор, не утихавший все тринадцать лет их совместной жизни. После совместной работы над текстом мы отправились в школу за детьми. Несколько девочек из класса Амели окружили меня и спросили: «Это правда, что вы написали книгу про Жюльетт? Ее можно будет почитать?» Но сама Амели и ее сестры никак не отреагировали, когда я заговорил об этом за обедом. «Да, мы знаем», — говорили они, отводили взгляды и переводили разговор на другие темы.
Спустя несколько месяцев после возвращения со Шри-Ланки мы поехали в Сент-Эмильон проведать Филиппа, Дельфину и Жерома. Комната Джульетты выглядела, как мавзолей — средоточие памяти и печали. Филипп написал свою книгу, и мы обменялись несколькими электронными письмами, одновременно сердечными и отдаленными. Камилла родилась годом позже, через десять дней после Жанны, по этому поводу мы тоже письменно поздравили друг друга. Последующие два года мы не общались. Прервав долгую паузу, я связался с Филиппом, отправил ему рукопись и попросил поставить об этом в известность дочь и зятя. Филипп все одобрил, лишь исправил название какой-то местности, однако посчитал, что Дельфине и Жерому не стоит читать мою книгу. Во всяком случае, не сейчас, а может быть, вообще никогда. Всем семейством — Элен, Родриго, Жанна и я — мы отправились к ним на уикенд и провели его просто замечательно. Меньше месяца тому назад у наших друзей появился малыш, его назвали Антуаном. Обе девчонки немедленно нашли общий язык и увлеклись игрой. Родриго обожал Дельфину и, к обоюдной радости, снова увиделся с ней. Я рассказал последние новости о Жане-Батисте и его старшем брате Габриэле: первый учился в университете в Ирландии, а второй устроился работать киномонтажером. Филипп рассказал, как сложилась, а потом распалась его ассоциация помощи рыбакам Медакетии. Он постоянно ездит туда — три-четыре раза в год. Из своего бунгало на пляже он смотрит на океан, размышляет о жизни, а иногда вообще ни о чем. Вечер у Дельфины и Жерома прошел по привычному сценарию: вслепую дегустировали вина, слушали редкие записи «Роллинг Стоунз», покуривали травку и, конечно, смеялись. Комната Джульетты перестала быть мавзолеем, ее заняла Камилла, а чуть позже — когда немного подрастет — к ней присоединится Антуан. Но на камине стояла большаяфотография Джульетты, и ее имя произносилось без всякого стеснения. В семье было не два ребенка, а три, просто один из них умер. Когда речь зашла о моей книге, Дельфина сказала, что хотела бы прочитать ее, но Филипп неожиданно резким и дрожащим голосом заявил, что для нее это станет настоящим потрясением, ибо она узнает о том, что всегда от нее скрывали. Я не понимал, на что он намекает, и отвел его в сторонку, чтобы выяснить это. Как оказалось, Филипп имел в виду эпизод, когда Жером, вернувшись из морга в Коломбо, сказал Дельфине, что Джульетта выглядела красавицей, а потом признался Элен в обмане: на самом деле он видел разлагающийся труп дочери. «Ты представляешь, — сказал Филипп, — что будет, если Дельфина узнает, что Жером соврал ей?» Я предложил убрать этот эпизод, если он считает его чересчур болезненным, но Филипп ответил, что об этом не может быть и речи; Дельфина, считал он, усмотрит в нем не столько предательство, сколько еще одно доказательство любви своего мужа. В конце концов, мы договорились, что Филипп передаст текст Жерому, а тот — Дельфине, если сочтет возможным. В таком порядке старшинства я усмотрел своеобразный союз двух мужчин, отца и мужа, объединившихся для ее защиты, но когда я сказал об этом Элен, она покачала головой и ответила: «Это она их защищает, все держится на ней. Именно благодаря ей они продолжают жить вместе, родили других детей, справились с прошлым». Я вспомнил слова Дельфины, сказанные за ужином: ключевым моментом, определившим, житьей или умереть, стало для нее согласие присмотреть за Родриго во время нашего отсутствия. Сначала она подумала: «Нет, я никогда не смогу заняться чужим ребенком спустя два дня после смерти собственной дочери», но сказала «да», и с того момента, несмотря ни на что, продолжала говорить «да».
Жанна проснулась в семь утра, выбралась из своей кроватки — с некоторых пор она уже самостоятельно перелезала через решетку — и прибежала к нам. Я пошел на кухню подогреть дочке бутылочку с молоком. Напившись, она устроилась между мной и Элен и притихла. Но передышка длилась недолго — пора было вставать, петь и плясать. На тот момент Жанна больше всего любила песенку-считалку «Господин Медведь». Я отворачивался, накрывался с головой одеялом и шумно храпел, исполняя роль косолапого. Элен пела: «Господин Медведь, просыпайся и вставай. На счет три открой глаза: раз, два, три. Господин Медведь, будем спать или вставать?» В первый раз я отвечал замогильным голосом: «Я сплю!» Элен повторяла: «Господин Медведь, будем спать или вставать?» На этот раз я с ворчанием поворачивался: «Я встаю!» Элен и Жанна испуганно кричали, показывая, как им страшно. Дочка была на верху блаженства. «Господина Медведя» хватит до конца года, до него были три котенка, потерявших свои варежки. Когда Жанна случайно открывала музыкальную книжку про котят, нас охватывало ностальгическое настроение: эта песенка звучала, когда наша дочь была совсем маленькой, едва ходила и еще не разговаривала. То чудесное время безвозвратно прошло и больше никогда не вернется. Я думал об обыденных вещах, что очаровывали нас, о том, в какую пытку превратятся игрушки, считалки, детские башмачки, когда случится непоправимое: не станет маленькой девочки, и гроб с ее тельцем скроется под слоем земли. Тем не менее, это очарование вернулось к Дельфине и Жерому вместе с двумя другими детьми. Они ничего не забыли, но не остались на дне пропасти отчаяния, что представляется мне удивительным, непостижимым и загадочным. Да, загадочным: пожалуй, это самое подходящее слово.
Чуть позже я иду готовить завтрак, а Элен одевает Жанну. Вообще, выбирая и покупая ей одежду, Элен получает такое же удовольствие, как если бы делала покупки для самой себя, поэтому наша маленькая дочка — настоящая модница. Вскоре они обе приходят ко мне на кухню. Элен красуется в обтягивающих брюках йога и легком пуловере с глубоким волнующим вырезом; она красива, сексуальна и нежна. Я очарован надежностью и глубиной нашей любви. Мысль о том, что я могу потерять ее, просто невыносима, но впервые в жизни я подумал, что отнять ее у меня может только несчастный случай, болезнь, нечто такое, что обрушивается нам на голову извне, но только не стремление к новизне, усталость или неудовлетворенность. Наверное, опрометчиво говорить это, но я так не считаю. Конечно, если нам дарована долгая жизнь, впереди будут кризисы, разочарования, бури, ослабнет и уйдет страсть, но я верю, что мы выдержим, и один из нас закроет глаза другому. Во всяком случае, ни о чем другом я не мечтаю.
Мы с Жанной одеваемся в прихожей, и дочь подкатывает к дверям свою коляску. Не ту, в которой мы возим ее, и куда она уже не очень-то желает садиться, а свою маленькую колясочку с облысевшей, довольно мерзкого вида пластмассовой куклой, пахнущей клубничной жвачкой. С тех пор, как Элен купила Жанне эту коляску, дочка без нее никуда не выходит. Она во всем хочет походить на взрослых: мы ведем на прогулку нашего ребенка, она ведет своего. Мы выходим на лестничную площадку, Элен целует дочь, и та направляется к лифту, но на полпути останавливается и, повернувшись к матери, машет ей ручкой. Уже в лифте Жанна становится на цыпочки, чтобы нажать нужную кнопку, и пока застекленная кабина не ушла вниз, я вижу улыбку на лице Элен. Мы выходим на улицу. Жанна с важным видом толкает перед собой коляску, я иду рядом, следя за тем, чтобы она ненароком не вышла на проезжую часть. Ребенок с такой гордостью копирует нас, что, чувствуя свою ответственность, даже забывает останавливаться перед воротами, столбами, мотороллерами. До улицы Отвилль мы добираемся довольно быстро, словно коляску вез я, а не дочь. Время от времени Жанна оборачивается, словно призывая меня в свидетели, что она все делает правильно. У подъезда в дом нянечки я поднимаю дочку к домофону и ее пальчиками нажимаю нужные кнопки. В продолжение ритуала входит включение света в подъезде, потом звонок в дверь и ожидание шагов мадам Лауни в прихожей. Жанна никогда не плакала, когда я приводил ее к мадам Лауни, женщине сердечной, ласковой и в то же время строгой; чувствовалось, что у нее всегда все в порядке. Правда, в прошлом году она потеряла мужа. Она позвонила нам утром и, рыдая, сообщила, что ночью от сердечного приступа умер ее муж, и она не сможет принять Жанну. До этого мадам Лауни выглядела счастливой женщиной, нашедшей свое место в жизни. Ее отличали организованность, хорошее настроение, энергичность и приветливость. Такой же она осталась и после смерти супруга. Об их семейной жизни мне ничего не известно, я никогда не встречал ее мужа — он уходил на работу до того, как я приводил Жанну, и приходил домой после того, как я ее забирал, но я уверен, что мадам Лауни любила его: они рука об руку шли по жизни, вместе растили дочерей, и жизнь без него стала пустой, несправедливой, грустной. Но больше всего меня впечатляло то, что ее горе, а она его ни от кого не скрывала, никак не отражалось на детях, за которыми она присматривает. По ее словам, они помогают ей выдержать все невзгоды, и я ей верю. Иногда по утрам, когда она открывает дверь, я замечаю ее покрасневшие глаза: должно быть, она плакала всю ночь и не выспалась, но женщина ласково обнимает Жанну, они обе смеются, и я знаю, что так будет до самого вечера.
По улице Отвилль я выхожу на площадь Ференца Листа, в уютном кафе просматриваю газеты и возвращаюсь домой. Родриго собирается в колледж, а когда он уйдет, Элен ляжет в постель еще немного понежиться. Я присоединюсь к ней, и мы займемся любовью — спокойно, по-супружески, немного привычно, но наша взаимная страсть от этого не угасает и, надеюсь, останется неиссякаемой. Потом я сварю кофе, мы будем пить его на кухне, беседуя о детях, новостях, друзьях, домашних делах. Элен пора на работу, за ней захлопывается дверь в прихожей, и я тоже принимаюсь за дело. На протяжении последних шести месяцев я ежедневно проводил за компьютером по несколько часов и писал о самом страшном: родителях, потерявших маленького ребенка; детях и муже, оставшихся без матери и жены — еще молодой женщины. Так уж вышло, что жизнь сделала меня свидетелем обеих трагедий и, как я понимаю, пощадила, чтобы я рассказал о случившемся. Мне доводилось слышать, что счастье осознается задним числом: мол, раньше я этого не понимал, но, оказывается, я был счастлив. Не могу сказать того же про себя. На протяжении многих лет я был несчастным человеком, и осознавал это, но мне нравится моя судьба, хоть в ней нет больших достижений, и моя философия полностью вписывается в слова, якобы произнесенные мадам Летицией, матерью Наполеона, в день коронации сына:«Только бы ничего не изменилось».
Да, и еще: я предпочитаю то, что сближает меня с другими людьми, а не то, что отличает от них. Для меня это тоже внове.
Дописывая последние строки этой книги, я понимаю, что почти не уделил внимания Диане. Про Амели и Клару я немного рассказал, каждой посвящена какая-то сценка, у каждой есть свое место, но младшая из сестер к моменту смерти матери была еще такой маленькой, что лишь мельком упоминалась в повествовании как молчаливый или горластый— смотря по обстоятельствам — младенец, сидящий на руках у отца. Теперь Диане исполнилось четыре годика, и мне кажется, ей тяжелее без матери, чем сестрам: она самая младшая, рядом с мамой прожила всего год и три месяца, наконец, она ее даже не помнит. Натали, супруга Этьена, рассказала мне об их последнем семейном визите в Розье:Диана все время требовала, чтобы мать брала ее на руки, но та каждый раз передавала дочь Патрису. Жюльетт оставался всего месяц жизни, и она считала, что Диане не следует привыкать к ней, потому что потом ребенок будет сильно скучать по матери. По словам Партиса Диана, едва научившись говорить, спросила: «А где моя мама?» Ее любимым фильмом стал «Бэмби». Она сотню раз пересматривала сцену, где Бэмби понимает, что его мать уже не встанет на ноги. Этот эпизод стал истинным отражением ее собственной жизни. Патрис сказал, что из трех дочерей именно Диана больше других говорит о матери и только она очень часто просит его показать слайд-шоу, посвященное памятиЖюльетт. Они вдвоем спускаются в мастерскую Патриса, усаживаются перед компьютером и запускают программу. Звучит музыка, на экране кадры сменяют друг друга. Патрис смотрит на жену, Диана не сводит глаз с лица матери. По их щекам текут слезы, они еще больше сближают совсем маленькую девочку и ее отца, и он никогда не сможет сказать ей то, что отцы всегда говорят своим детям: «Ничего, это не беда». Я далек от них и пока счастлив, но как никто другой знаю, насколько хрупким является счастье. Я хочу хоть немного облегчить чужое горе и потому посвящаю эту книгу Диане и ее сестрам.
Конец