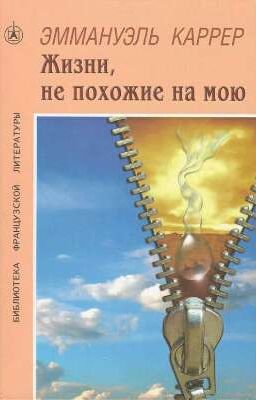15.
Этьена разбирает смех, когда он вспоминает о своей первой встрече с Жюльетт. В дверь его кабинета постучали, он отозвался: «Да, войдите», и, когда поднял голову от бумаг, увидел, как она направляется к нему, опираясь на костыли. Этьен невольно подумал: «Замечательно! Хромая!»
Но не сама мысль веселит его даже сейчас, хотя с тех пор прошло уже много времени, а то, что родилась она так внезапно и, едва сформировавшись, вылилась в пару слов, за точность которых он ручается. В следующий момент он увидел над костылями открытое приятное лицо с красивой улыбкой, веселое и в то же время серьезное, что, несомненно, положительно сказывалось на общем впечатлении. Но на передний план, прежде всего, выступали костыли посетительницы и ее хромота: он тут же воспринял это как подарок и испытал радость от того, что может ответить ей тем же. Никаких проблем: достаточно встать и обогнуть стол — она увидит, что он тоже хромает, только обходится без костылей.
В начале осени я решил съездить во Вьен, чтобы посетить дворец правосудия и понять, в чем, собственно, заключается работа судьи малой инстанции. Тогда же я понял, что пришло время позвонить Патрису. Я опасался этого звонка, потому что еще не говорил с ним по поводу моего проекта, о нем знали только Этьен и Элен. Патрис был немногоудивлен, но возражений с его стороны не последовало. Он коротко сказал: «Приезжай».
Он встречал меня на перроне вокзала с Дианой на руках и, поздоровавшись, спросил, не буду ли я возражать, если мы сходим за покупками в «Интермарше». Девочки не ходят в школьную столовую, ему нужно готовить три раза в день на трех маленьких дочек, а самой младшей исполнилось всего полтора годика. Патрис вел себя совершенно спокойно, разве что иногда слегка повышал голос, когда девочки слишком уж расходились. Я помогал ему, как мог: носил продукты из машины в дом, накрывал на стол, убирал посуду, загружал ее в посудомоечную машину потом доставал оттуда, протирал стол из желтого огнеупорного пластика, собирал с пола рис, просыпанный Дианой, и баночки йогурта, разбросанные ею с высоты детского стульчика; одним словом, спустя час я уже считался одним из домочадцев. Патрис воспринимал мое присутствие с невозмутимостью и спокойствием, я не мешал ему и, тем более, детям. После обеда он уложил Диану спать, Амели и Клара отправились через площадь в школу, а мы устроились в саду под катальпой выпить по чашечке кофе. Разговор шел понемногу обо всем, в том числе о повседневном укладе жизни семьи после смерти Жюльетт. Патрис не проявлял ни заинтересованности, ни желания обсуждать эту тему, и совсем не походил на человека, спокойно выжидающего, когда это дойдет до его собеседника. Я приехал провести с ними несколько дней, мы пили кофе, болтали о том о сем, и этого было достаточно. По дороге во Вьен я с волнением обдумывал, как буду строить с Патрисом разговор, какие аргументы позволят мне завоевать его расположение, но теперь подобные вопросы меня совсем не волновали. Когда чашки опустели, я достал блокнот, как это было на кухне у Этьена, и сказал: «А теперь расскажи мне о Жюльетт. Но для начала немного о себе».
Его отец, высокий сухощавый мужчина с суровым нравом, был преподавателем математики. Он носил бороду, и она придавала ему еще более строгий вид. Мама работала учительницей, но оставила работу ради воспитания детей. Общая любовь к горам заставила их обосноваться сначала в Альбервиле, потом перебраться в деревню близ Бург-Сен-Мориса, где они купили дом. Отец с самого начала был одним из активных борцов за сохранение экологии и имел репутацию непримиримого противника крупных горнолыжных курортов, рекламы, телевидения — он категорически отказывался иметь его в своем доме — и общества потребления в целом. Сыновья очень любили его, и в то же время немного побаивались. Мать, со своей стороны, чересчур опекала их. Она хотела, чтобы ее мальчики были открытыми и уверенными в себе. Патрис считал, что она слишком уж нянчилась с ними, во всяком случае именно с ним. Например, она заставила его провести два года в пятом классе начальной школы, ибо не считала его готовым к переходу в шестой из-за того, что он побаивался приставаний старших детей на школьном дворе. Пока он и его братья были детьми, все шло хорошо: вместе с приятелями они играли в ковбоев на деревенских улицах. Но когда детвора подросла, обстановка изменилась. Приятели забросили учебу после окончания колледжа, но о том, чтобы трое братьев поступили так же, не могло быть и речи. Дружки носились на мопедах, курили, болтались с девчонками; у братьев не было мопедов, они не курили и не заводили себе подружек: они довольно быстро усвоили семейные ценности, чтобы понимать бессмысленность подобного времяпрепровождения. Вместо похода на танцы в субботу вечером они гасили свет в своей комнате и слушали альбомы Грэма Оллрайта[41]и «Пинк Флойд». Они не чувствовали себя выше других, но отличными — да. Друзья детства, а они видятся с ними и по сей день, работают автомеханиками, каменщиками, выдают лыжи на горнолыжных базах или прокладывают трассы на склонах вокруг Бург-Сен-Морис; оба брата Патриса пошли по стопам матери и стали учителями, сам Патрис устроился художником-мультипликатором в Изере: уезжать из Савойи никому и в голову не приходило. Никто их них не добился заметных успехов, но и неудачниками их не назовешь, однако же различия остались. После дневного сна встала Диана, и мы отвели девочку к няньке — днем в течение нескольких часов та присматривала за малышкой. Патрис между делом заметил, что она и ее муж принадлежали совсем к другой среде. Под этими словами подразумевалось, что они жили с включенным телевизором, болели за какие-то футбольные команды, а в плане политики придерживались правых взглядов, даже крайне правых. В заключение он добавил, что это замечательные люди, и я совершенно уверен в искренности его слов. Констатируя различия в жизненных ценностях, Патрис был далек от какого бы то ни было высокомерия и снобизма, кажущихся особенно злобными в тех случаях, когда дистанция между этими ценностями, при взгляде со стороны, представляется незначительной. Все это не мешало Патрису беседовать с соседями об Attac[42]и налоге Тобина[43],конечно, без особого успеха, без малейшего сомнения в справедливости своих убеждений, но и без презрения к тем, кто их не разделяет и сетует на засилье иностранцев во Франции.
В школе он учился не очень хорошо и сам себя называл лентяем. Больше всего он любил мечтать, забравшись в уютный утолок, представлять себя героем вымышленного мира,населенного рыцарями, великанами и принцессами. Свои мечты он облек в сочинение книг-игр. Завалив экзамен на бакалавра, Патрис отказался от пересдачи: из того, что преподавали в лицее, его не привлекал ни один предмет. Проблема заключалась в том, что ему не нравилось ничего, ни одна специальность за исключением профессии рисовальщика комиксов. На затруднительный вопрос: чем ты хочешь заниматься, когда станешь взрослым, он нашел свой ответ. Это было не столько настоящим призванием, сколько своего рода убежищем, признавал он, способом уходить из реального мира, где требовалось быть сильным и сражаться за свое место под солнцем. Родители согласились отправить его в Париж, где ему предстояло делить маленькую комнатушку с кем-то из родственников и упорно работать над рисунками, что могло бы открыть ему двери издательств. По прошествии времени Патрис сожалел, что не закончил курсы рисования, где смог бы освоить технику рисунка. Он был самоучкой, рисовал шариковой ручкой на листах бумаги в клеточку и, по сути дела, понятия не имел о том, что происходит в выбранной им сфере деятельности. Впрочем, кое-какие имена и названия были у него на слуху: Йохан и Пивит, «Спиру», Тинтин, Блуберри, и этого ему было достаточно. Время от времени Патрис заходил в книжный магазин «Жибер Жён» и листал журналы «Эхо саванн» и «Флюид Гласьяль» с комиксами для взрослых, но они вызывали у него неприятие: ему казалось, что просматривая агрессивные, изощренные, отточенные картинки, он предаетмир детства, связь с которым чувствовал очень остро. В прогулках по улицам Парижа его часто сопровождал двоюродный брат, учившийся в музыкальном лицее по классу альта и такой же неисправимый романтик. Иногда они ходили в парк Со и взбирались на дерево. Устроившись на ветвях, они проводили там весь день, мечтая о грядущей встрече со сказочной принцессой. Тем не менее, под самый новый год Патрис написал слово «конец» внизу последнего листа своего комикса и попытался куда-нибудь его пристроить. В издательстве «Кастерман» ему любезно сказали, что комикс неплох, но чересчур наивен и сентиментален. Разочарованный, но не удивленный, Патрис вышел на улицу с папкой под мышкой и больше никуда не ходил. Как видно, мир комиксов оказался более жестким, чем мир его комиксов.
Когда подошел призывной возраст, он не подсуетился с альтернативной службой и не откосил от армии, как его более расторопные и ушлые сверстники из буржуазной среды: Патрис был против войны и армии, поэтому считал естественным отказ от военной службы по религиозно-этическим соображениям. В итоге его отправили заниматься организацией культурных мероприятий в крепости неподалеку от Клермон-Феррана, что могло бы ему понравиться, если б только его компаньоны не оказались такими же грубиянами и распутниками, как обычные солдафоны; затем последовал перевод в центр педагогической документации, где рисовал серии картинок для обучения языкам. Спустя двагода Патрис демобилизовался и зарегистрировался на бирже труда. Вскоре ему предложили работу шофера, доставляющего товары на дом, и он переехал в небольшую однокомнатную квартирку в Кашане[44].Объективно, его будущее вызывало определенную тревогу, но Патрису все было до лампочки. Его совершенно не беспокоили ни житейские заботы, ни карьера, ни страх перед завтрашним днем.
Он записался на курсы любительского театра в молодежном доме культуры V-го округа. Основной упор там делался на импровизацию и артистическую жестикуляцию, что нравилось Патрису гораздо больше, чем постановки собственно пьес. Студийцы ложились на маты, устилавшие пол, включалась более или менее приличная музыка, и от молодых людей требовалось только одно — дать себе волю, дать выход своим чувствам. Сначала ты сосредотачиваешься, сворачиваешься в комок, потом начинаешь двигаться, медленно привстаешь, открываешься, как цветок, обращенный к солнцу, протягиваешь руки к другим, вступаешь с ними в контакт. Это было потрясающе. В парных упражнениях два человека усаживались лицом к лицу и смотрели друг другу в глаза, стремясь передать различные эмоции: подозрительность, доверие, страх, вожделение… Театральный опыт показал Патрису, насколько неловко он чувствовал себя в общении с другими людьми. На фотографиях той поры он выглядел красивым парнем, хотя сам себя называл прыщавымдылдой с редкой бороденкой, круглыми очками, шапкой волос в африканском стиле и шарфами домашней вязки. Театр открыл его как личность. Он стал для него дорогой к людям, особенно к девушкам. Патрис вырос в мальчишеской компании, при этом не только ни разу не спал с девушкой, но буквально не знал, с какой стороны к ней подойти. Благодаря театральным курсам, он обзавелся знакомыми девчонками, приглашал их в кафе или кино, но романтизм Патриса упирался в чрезмерную стыдливость, и его смущали подруги, казавшиеся чересчур нескромными. Именно в этот период на горизонте появилась Жюльетт.
Когда Элен говорила, что Жюльетт была самой красивой из трех сестер, и потому она ее ревновала, я лишь скептически качал головой. Я видел ее больной, потом умирающей, видел детские фотографии — на них Элен и Жюльетт были похожи, как близнецы. На снимках, что показал мне Патрис, она действительно выглядела потрясающе: большой чувственный рот, красивые белоснежные зубы как у Джулии Робертс или Беатрис Даль и улыбка — не просто лучезарная, как говорят все, кто ее знал, а поглощающая, почти плотоядная. Общительная, забавная, непринужденно чувствующая себя в обществе, она обладала блеском, способным обескуражить скромного парня вроде Патриса. К счастью, у нее были костыли. Они-то и делали ее досягаемой.
Они не сразу стали встречаться один на один, их первые «свидания» происходили во время групповых мероприятий. Преподаватель водил их в театр, а там много лестниц, иЖюльетт не могла по ним ходить. Патрис, хоть и робкий, был парнем крепким. В первое же посещение он взял девушку на руки, и с тех пор эту привилегию у него никто не оспаривал. Так они и поднимались — одна лестница сменяла другую, но Патриса совсем не тяготила его ноша. Потом они стали посещать памятники архитектуры, отдавая предпочтение многоэтажным, а когда сидели бок о бок в полумраке театральных залов, то всегда держались за руки. Патрис вспоминал, что они оба были очень чувствительны к такому контакту. Их пальцы соприкасались, переплетались, обменивались нежными поглаживаниями, но каждый раз это происходило по-разному, неизменно волнующе и словно впервые. Он с трудом верил, что такое чудо происходит с ним. Потом они поцеловались. Потом переспали. Он раздел Жюльетт и нагую заключил в объятия, ласково и нежно раздвинул ее почти безжизненные ноги. Для обоих это происходило впервые.
Патрис нашел принцессу своей мечты. Красавицу, умницу, слишком красивую и умную для него, как он считал, тем не менее, с ней все было просто. От нее не стоило ждать кокетства, предательства и подвоха. Он сам мог быть у нее под контролем, мог довериться ей, не боясь, что она воспользуется его неискушенностью. То, что с ними происходило, имело большое значение для обоих. Они любили друг друга и собирались пожениться.
Тем не менее, сначала их беспокоило различие в характерах, особенно ее. Патрис не только не имел настоящей профессии, но и не задумывался о том, чтобы обзавестись ею. Ему хватало того, что он зарабатывал шофером по доставке товаров и руководителем студии комиксов в одном из парижских центров досуга. Жюльетт, напротив, была решительной и волевой. Своим занятиям она придавала большое значение. Ее раздражала мечтательность Патриса и его пассивность, а Патрису не нравилось, что она изучает право. Тем более, в Ассас[45],известном как гнездо крайне правых. Патрис не отличался особой политической активностью, но считал себя анархистом и в правых партиях видел лишь репрессивный инструмент на службе у богатых и власть имущих. Если бы Жюльетт хотела стать адвокатом, защищать вдов и сирот, то это он бы еще понял, но судьей! На самом деле, был момент,когда Жюльетт подумывала стать членом коллегии адвокатов. Она получила степень магистра по хозяйственному праву, но от учебного процесса ее просто тошнило. Студентов учили как хитрить, чтобы будущие клиенты могли получать прибыли по своему желанию, и как выжимать из них приличные гонорары. Либерализм, открыто приравненный кправу сильного, циничные улыбки преподавателей и сокурсников, все это оправдывало идеалистическую критику со стороны Патриса. Жюльетт терпеливо объясняла, что ейнравится право, потому что в конфликте слабого с сильным закон защищает, а свобода обеспечивает равные условия для всех, и чтобы закон соблюдали, а не извращали, она хочет стать судьей. Патрис принимал эту точку зрения, но, тем не менее, ему было трудно свыкнуться с мыслью, что его жена — судья.
Не легче давалось и восприятие различий в образе жизни. Жюльетт жила с родителями в большой квартире рядом со станцией метро Данфер-Рошро, и всякий раз, когда Патрис ездил к ней, он чувствовал себя очень неловко. Жак и Мари-Од были известными учеными и добрыми католиками, проповедовали элитарность и придерживались правых взглядов, поэтому, попадая к ним в дом, Патрис чувствовал, что на него посматривают свысока: ведь он выходец из семьи провинциальных учителей, из захолустья, где ездят на старых колымагах, облепленных наклейками, призывающими выступать против строительства атомных электростанций. У него дома дискуссия считалась нормой: можно обсуждать все, нужно обсуждать все, ведь из спора рождается истина. Однако, с точки зрения родителей Жюльетт, как, впрочем, и моих тоже, дискутировать с каким-то савояром, сторонником защиты окружающей среды, считающим, что микроволновки опасны для здоровья, все равно, что спорить с дремучим невеждой, готовым утверждать, что Земля плоская и Солнце вращается вокруг нее. Не бывает двух правильных мнений — бывают люди, которые знают, и люди, которые не знают, и не стоит делать вид будто их спор идет на равных. Следовало признать, Патрис был славным молодым человеком, искренно любил Жюльетт, но символизировал все то, что Жак и Мари-Од на дух не переносили: длинные патлы, радикализм Мая 1968, и особенно поражения. В их глазах он был неудачником, они не могли согласиться с тем, что их дочь, такая красивая и талантливая, влюбилась в недотепу. Что касается Патриса, то для него объекты неприятия выглядели довольно расплывчато: огромная столица, религия, как опиум для народа, вышедшая из-под контроля наука, но переносить абстрактную неприязнь на конкретные личности было не в его характере. Он чувствовал презрение со стороны будущих тестя и тещи, и это обезоруживало его, он не мог ответить им той же монетой, разве что думать: лучше бы ему вообще не встречаться с ними. Но встреча произошла, он любил Жюльетт, и с этим нужно было что-то делать.
Я думаю, из-за этого она страдала больше чем он, потому что была дочерью своих родителей и не могла не видеть его их глазами. Жюльетт не тешила себя иллюзиями. Она выбрала его вполне сознательно. Но перед тем, как сделать окончательный выбор, она долго колебалась. Ей пришлось представить себе будущую жизнь с Патрисом в резком, скорее даже жестоком свете: оценить размеры клетки, на жизнь в которой себя обрекает, и прочность ее фундамента, убедиться в его безграничной любви, в том, что он до конца жизни будет носить ее на руках.
Вопросы возникали и у Патриса. Право, тесть с тещей, необходимость делать карьеру… все это было не для него. Жизнь с Жюльетт грозила вырвать его из привычной среды обитания. И потом, разумно ли связывать жизнь с девушкой-инвалидом, не нагулявшись вдоволь с другими? Однажды они обсудили этот вопрос и пришли к разумному заключению, что не подходят для совместной жизни. Каждый изложил свои аргументы. У Патриса их оказалось больше: из них двоих он с самого начала был более разговорчивым. Он откровенно выкладывал все, что приходило ему в голову, тогда как Жюльетт была более сдержанной и не выворачивала душу наизнанку. Разговор закончился тем, что они решили расстаться и, расстроенные донельзя, расплакались, как дети. Два часа они рыдали в объятиях друг друга, лежа на узкой кровати в крохотной квартирке Патриса в Кашане. Тогда-то, утирая слезы, оба поняли: каким бы ни было горе одного, другой всегда найдет слова утешения, а вот единственным безутешным оказалось именно то, которое они сейчас причиняли друг другу. Вопрос о будущем решился однозначно: они будут жить вместе и никогда не расстанутся. Именно так они и поступили.
Жюльетт дала понять родителям, что признает их недовольство сделанным ею выбором, но требует уважать его. Молодые люди устроились в маленькой однокомнатной квартирке на восьмом этаже жилого дома в XIII-ом округе. Лифт часто выходил из строя, тогда Патрис нес Жюльетт домой на руках. Несколькими этажами ниже находилось общежитие, где селили бывших зеков, и Жюльет добровольно взялась помогать им в качестве юрисконсульта. Денег хватало лишь на то, чтобы сводить концы с концами: их бюджет состоял из пенсии по инвалидности Жюльетт — она считала делом чести не просить денег у родителей — и гонораров, что платили Патрису за комиксы в одном из магазинчиков для коллекционеров электронных телефонных карточек. Позднее они перебрались в Бордо, где Жюльетт поступила в Национальную школу по подготовке и совершенствованию судебных работников — спустя десять лет после того, как ее закончил Этьен. Она училась превосходно и заслужила всеобщую любовь, как это происходило повсюду, где ей доводилось бывать. Вполне логично, что эмблемой ее выпуска стал рисунок Патриса, изображавший Марианну в облике Жюльетт. Вскоре на свет появилась Амели. После окончания школы Жюльетт решила специализироваться по гражданскому праву, а местом работы выбрала суд малой инстанции во Вьене, потому что точно выяснила: в здании тамошнего суда имеется лифт.
~~~
Чем дольше длилась наша беседа под тенистой катальной, тем больше меня удивляло доверительное отношение Патриса ко мне. Не думаю, что заслужил его чем-то особенным: он точно так же относился бы к любому другому человеку, потому что еще не привык проявлять осторожность. К нему приехал свояк, к тому же писатель, автор книг, имевших репутацию черных, даже жестоких, сообщил, что собирается написать повесть о его покойной жене и просит рассказать об их жизни. Вот он и рассказывал, при этом не стремился показать себя в лучшем свете, как, впрочем, и в худшем. Он оставался самим собой, и его совершенно не интересовало мое мнение. Он не строил из себя важную персону, и ему нечего было стыдиться. Видимая беззащитность на самом деле придавала ему большую силу. Этьен не зря с восхищением сказал о нем: «Он знает, где он».
Амели и Клара вернулись из школы, и мы вчетвером отправились на велосипедах к няньке за Дианой. У Патриса на багажнике было закреплено сиденье для Клары, а Амели уже умела самостоятельно ездить на двухколесном велосипеде. Мы пересекли дорогу и земляную площадку перед школой, миновали церковь и свернули на узкую улочку, что вела к кладбищу. Пейзаж тут был самый что ни на естьдеревенский: зеленые ложбинки и коровы, лениво жующие сочную траву. «Заскочим поздороваться с мамочкой?» — предложил Партис. Мы прислонили велосипеды к кладбищенской ограде, он взял Клару на руки. Могила Жюльетт была покрыта рыхлой землей и обложена большими круглыми камнями, ярко раскрашенными местными детишками и подписанными их именами. Я снова подумал о дне похорон. В церкви Патрис произнес простые, трогательные слова и в завершение сказал, что потерял свою любовь; потом с пылкой речью выступил Этьен, назвав смерть жестокой; его сменила Элен и зачитала свой текст, сочиненный накануне, о том, что маленькая спокойная жизнь Жюльетт не была ни маленькой, ни спокойной: она сама выбрала ее и достойно прожила. Небольшую проповедь произнес крестный отец Жюльетт, дьякон. Его дочь тоже умерла от рака. Позднее Этьен сказал мне, что ему не понравились благостные, правильные улыбки, которыми он щедро приправлял известие, что отныне Жюльетт пребывает в царстве Божием, чему все мы должны радоваться; в то же время он признавал, что некоторые были рады слышать это, а раз так, то почему бы и нет? После панихиды процессия двинулась на кладбище — сегодня мы с Партисом и девочками приехали той же дорогой. Ничем торжественным она не отличалась, но так было даже лучше. На катафалк гроб не ставили, его всю дорогу несли на плечах. В процессии было много детей и молодых пар: хоронили все же молодую женщину. Но у могилы все пошло кувырком: Патрис, раздраженный проповедью дьякона — онсчитал ее ханжеским фарсом, — сказал, что теперь каждый может попрощаться с Жюльетт так, как посчитает нужным. Еще в церкви он снял крест, лежавший на крышке гроба. Как и его родня, он верил в искренность и непосредственность проявления чувств в любых обстоятельствах, он сам жил так и считал это нормой, но без благопристойности,свойственной религиозному ритуалу, процедура оказалась скомканной. Вместо того, чтобы стать друг за другом, по очереди подойти к могиле и бросить горсть земли на крышку гроба, люди сбились в неорганизованную растерянную толпу. Предоставленные сами себе, они не решались исполнить то, что им подобает, а то и не знали, как себя вести. У края могилы началась толкотня: под ногами у взрослых вертелись дети, пытаясь положить на место раскрашенные ими камни, и только усугубляли всеобщую суматоху. Чтобы навести хоть какой-то порядок, один из верующих затянул «Аве, Мария», но молитву подхватили всего несколько человек. Многие уходили с кладбища и сбивались на дороге в маленькие молчаливые группки, кто-то закуривал, и никто не знал, закончилась церемония или нет. Точку поставил могильщик: он подъехал на автопогрузчике с полным ковшом земли и высыпал ее в могилу. По-моему, Патрис явно не справлялся, когда на него возлагалась ответственность за общественный ритуал, но в компании со мной идочерями он вел себя безупречно, говорил простым и точным языком, и я подумал, что на девочек эти частые посещения кладбища действовали успокаивающе. Клара молчала, сидя на руках у отца, зато Амели привычно обежала соседние могилы. По ее мнению, они были не такие красивые, как мамина. «Мне не нравится мрамор, — говорила она, — он кажется мне унылым», и по ее напыщенному тону можно было без труда догадаться, что она произносит фразу, услышанную от кого-то из взрослых, и повторяет ее при каждом визите, потому что ей это нравится. Я смотрел на нее и думал, сохранятся ли наши отношения, когда она вырастет. Скорее всего да, при условии, что я напишу эту книгу. Буду ли я по-прежнему с Элен? Примем ли мы с ней участие в воспитании девочек, как она того хочет? Сможем ли мы каждый год брать их с собой в отпуск, а не только в первое лето после смерти их матери? Через десять лет Амели будет молодой девушкой и, возможно, я стану для нее кем-то вроде дядьки, написавшего книгу о ее родителях и о ней самой, только еще маленькой. Я представлял Амели с этой книгой в руках и думал, что писал ее на глазах трех сестер.
После ужина я прочитал Кларе сказку на сон грядущий. В ней шла речь о лягушонке, который боялся темноты, слышал странные звуки и прятался в постели папы и мамы. «А у меня больше нет мамы, — сказала Клара. — Моя мама умерла». Я кивнул: «Это так, детка», и не нашел слов, чтобы добавить что-то еще. Я думал о своих собственных детях и о сказках, что читал им, когда они были маленькими. Я думал о том, что нам с Элен едва не удалось обзавестись общим ребенком, но она потеряла его после смерти сестры, и другого у нас уже не будет. Я вспоминал, как Клара и Амели гостили у нас неделю во время школьных каникул. Клара все время твердила: «Когда мы вернемся домой, может быть, там уже будет мама». Она не переставала надеяться, что в один прекрасный день дверь откроется, и на пороге появится ее мамочка. Девочки часто ходят на могилу матери, и мне кажется, это хорошо: по меньшей мере, они знают, что она там, а не где-то везде и в то же время нигде. Пройдет время, и мать перестанет чудиться им за каждой закрытой дверью.
Когда девочки уснули, мы с Патрисом спустились в его мастерскую в полуподвальном помещении, где для меня была приготовлена кровать. Он рассказал о проекте нового комикса — очередной истории про рыцарей и принцесс под рабочим названием «Храбрец». «Вот как? Храбрец?» — я улыбнулся, и он ответил легким извиняющимся смешком с оттенком гордости: мол, как есть так есть, себя не переделаешь. За «Храбреца» он еще не принимался, прежде нужно было закончить заказ — серию одностраничных скетчей с полудюжиной очень характерных псов в качестве персонажей: злобный ротвейлер, сноб пудель, высокомерный далматинец, симпатичный дворовый пес — ему, как я понял, в этих историях отводилась роль положительного героя. Я сказал об этом Патрису, и он рассмеялся тем же смешком, словно хотел меня похвалить: «Отлично, ты меня узнал. Храбрец и дворняга — это я». Я просмотрел все листы. Это был комикс для детей, немного старомодный, но прорисованный четкой, уверенной линией, и невероятно непритязательный. Невероятно — не то слово, скорее даже непостижимо непритязательный, и я такого подхода не могу понять. Будучи по натуре человеком амбициозным, активным, я долженверить, что пишу исключительные произведения, что ими будут восхищаться. Такая вера воодушевляет меня, а ее отсутствие, наоборот, повергает в уныние. Чего не скажешь о Патрисе. Ему доставляет удовольствие рисовать то, что ему нравится, но он не считает свою работу исключительной и не испытывает потребности считать ее таковой, чтобы жить в мире с самим собой. Свой стиль он тоже не стремится изменить. Для него это было бы равносильно отказу от привычных грез, и тут он ничего не мог с собой поделать. В чем-чем, но в этом он был мастером своего дела.
Пока мы рассматривали рисунки, зазвонил телефон. «Привет, Антуан! — сказал Патрис, сняв трубку. — Ну, что? Все в порядке?» Последовал утвердительный ответ. Лаура, жена Антуана, только что родила сына-первенца. «Артур? Хорошее имя». Пока Патрис поздравлял шурина, я опасался, что он проговорится о моем присутствии. Антуан был бы сильно удивлен, узнай он, что я на несколько дней приехал в Розье без Элен, но еще больше это поразило бы их родителей. Я не просил Патриса хранить мой визит в тайне, к тому же, насколько мне было известно, он никогда не лгал, однако на сей раз он просто не упомянул о моем присутствии.
~~~
Мари-Од и Жак были последними, с кем я говорил по поводу книги. В отличие от траура Патриса, их скорбь меня серьезно смущала. Я боялся, что своими вопросами растревожу притупившуюся боль родителей Жюльетт, хотя понимал всю абсурдность своих опасений: боль от потери не затихает никогда, и время ее не лечит. Супруги находили утешение в своих маленьких внучках и заботились о них не на словах, а на деле, проявляя величайшую чуткость и нежность. Все мы — Патрис, Этьен, Элен и я — по-своему верим в целительную силу слова. Но Жак и Мари-Од, как и мои собственные родители, имели на сей счет свое мнение, их девизом могли бы стать слова: никогда не оправдывайся, никогда не жалуйся. Поэтому я сначала практически завершил работу над книгой и лишь потом поставил их в известность о своем проекте и попросил рассказать мне о том, что они знали лучше кого бы то ни было — о первом заболевании Жюльетт. Об этом они не говорили даже между собой, как и о рецидиве болезни и смерти дочери, но в надежде, чтокогда-нибудь в будущем книга благотворно повлияет на внучек, они согласились. Мы устроились в гостиной, и супруги повели рассказ, утонув в глубоких креслах, стоявших довольно далеко одно от другого, потом Жак перебрался на диван — поближе к жене, взял ее за руку и больше не отпускал. Пока говорил один из них, другой не спускал с него нежного и беспокойного взгляда, опасаясь, что у того вдруг сдадут нервы. У обоих на глаза наворачивались слезы, но они брали себя в руки, извинялись и продолжали: такова была их манера держаться и любить друг друга.
Жюльетт было шестнадцать лет, и она училась в предпоследнем классе лицея, когда впервые показала матери большую припухлость на шее и пожаловалась на боль. Ее тут же отвезли в больницу Кошен, потом в центр рентгенотерапии, где у девочки определили лимфогранулематоз — рак лимфатической системы, тот самый, что придумал себе Жан-Клод Роман. Жак и Мари-Од верили не в бессознательное, а в нарушение нормальной деятельности клеток, поэтому говорить с ними о психосоматической природе заболевания было бы бесполезно и вместе с тем жестоко; более того, в случае с их дочерью подкрепить такую гипотезу было в общем-то нечем, хотя Патрис упоминал о чувстве одиночества, преследовавшем Жюльетт в детские годы, о чем она не раз вспоминала в конце жизни. Как бы то ни было, возникал вопрос о неотложном лечении. Для врачей Жак и Мари-Од оказались трудными собеседниками в силу своего положения, информированности и требовательности, как следствие, лечащий врач Жюльетт предоставил им право самим выбирать между радио- и химиотерапией. Теперь они считают такое решение чудовищным, тем более, что оно породило бесполезное и мучительное сомнение: возможно, все сложилось бы не так, сделай мы другой выбор? Жюльетт прошла курс радиотерапии, лечения более щадящего — от него у пациентов не выпадали волосы. Прошло несколько месяцев, и врачи сделали заключение, что она поправилась. Девочка продолжила учебу, возобновила занятия танцами, приняла участие в демонстрации мод. О ее болезни в семье больше не говорили, что до всего остального, то только вскользь: Антуан, которому в то время было четырнадцать лет, никогда не слышал слово рак.
На следующее лето, в Бретани, Жюльетт начала оступаться и терять равновесие. Ее, обычно живую и резвую, теперь все чаще видели в плохом настроении, не расположенной к подвижным играм и занятиям. На самом деле, она пыталась скрыть, и прежде всего от самой себя, что ноги держат ее все хуже и хуже. Ситуация напоминала историю, случившуюся с Этьеном несколькими годами раньше, с той лишь разницей, что речь не шла о рецидиве рака. Первые исследования не позволяли делать какие-либо выводы, ей сделали по меньшей мере три поясничные пункции, и о них она сохранила самые жуткие воспоминания. Родители опасались рассеянного склероза. Наконец, один из неврологов в больнице Кошен открыл им всю правду. Девочка получила травму при прохождении курса радиотерапии. Отсчитывая позвонки для ограничения участка спины, подлежащего облучению, медперсонал, по всей видимости, допустил ошибку, и это привело к наложению двух зон лучевого воздействия. В том месте, где спинной мозг получил двойную дозу облучения, он оказался поврежден, нарушилось прохождение нервных импульсов в ногах, и пациентка начала постепенно терять над ними контроль. «Что же теперь делать?» — растерянно спросили Жак и Мари-Од. «Пытаться минимизировать ущерб, — ответил невролог с обнадеживающей миной на лице. — Ждать стабилизации состояния больной. Что случилось, то случилось, теперь остается наблюдать, каковы будут последствия».
С этого момент начался настоящий кошмар. Ни отец, ни мать не осмеливались повторить Жюльетт слова невролога. Они уклонялись от разговоров на тему болезни, и только оказавшись в одиночестве давали волю своим чувствам. Жак постоянно вспоминал сцену, свидетелем которой был полгода тому назад: он привез Жюльетт на лечение и, ожидая за дверью, услышал спор двух радиологов по поводу центрирования, то есть речь шла о метках, нанесенных на спину его дочери; судя по всему, между врачами имелись разногласия, потом кто-то из них резко повысил голос, словно ставил точку в споре, и это немного встревожило Жака. Теперь он считал, что роковая ошибка произошла именно в тот самый момент. Причем ошибка заключалась вовсе не в выборе метода лечения — радио- или химиотерапия: облучение полностью избавило Жюльетт от лимфомы, только его провели неправильно, и как следствие, оплошность медиков по сути дела лишила девочку ног. Жак и Мари-Од чуть ли не ежедневно осаждали центр лучевой терапии, стремясь призвать к ответу директора. Это был, вспоминали они, холодный, самодовольный тип, безразличный к их горю и пренебрежительно относившийся к их научному авторитету. Одним взмахом руки он отмел диагноз невролога из Кошена, не признал никакой ошибки в действиях своего персонала и отнес то, что отныне следовало называть инвалидностью Жюльетт, на счет «повышенной чувствительности» к лечению, в чем не повинен никто, кроме матушки-природы. Еще немного, и он сказал бы, что это она во всем виновата. Жак и Мари-Од возненавидели этого прыща так, как никогда и никого в жизни, смутно осознавая, что посредством его они ненавидят свое бессилие. В завершение разговора они попросили показать им медицинскую карту дочери. Директор центра со вздохом пообещал передать ее, но своего обещания не сдержал: супругам сказали, что карта пропала.
Что же Жюльетт, о чем думала она все это время? Элен вспоминает, что сестра страдала так называемыми «мигренями»: она целыми днями сидела в темноте, с ней нельзя было поговорить, к ней невозможно было прикоснуться. Любой сенсорный контакт становился для нее настоящим мучением. А еще Элен помнила, как мать мимоходом и вполголосасообщила ей, что Жюльетт рискует на всю жизнь остаться прикованной к инвалидной коляске, но она не должна знать об этом, иначе у нее пропадет желание бороться. Мари-Од сейчас сознается, что первое время боялась уходить на работу из опасения: как бы Жюльетт, несмотря на всю свою силу воли, «не наделала глупостей». Атмосфера в домебыла куда более тягостной, чем годом ранее. Лимфогранулематоз — болезнь тяжелая, но в девяти случаях из десяти излечивается и, даже если представляет реальную угрозу, быстро локализуется и устраняется: это, так сказать, небольшое осложнение, но сейчас все обстояло совсем иначе.
На слово «необратимый» наложили табу. Сначала Жак и Мари-Од запретили его произносить, но спустя какое-то время стали искать в себе смелость отменить этот запрет. По сути дела, они скрывали от дочери то, с чем поначалу не могли согласиться сами. Но потом родителям пришлось сдаться. Близилось совершеннолетие Жюльетт, и им предоставили возможность подготовить досье, дающее ей право на различные денежные пособия, удостоверение инвалида, сдачу экзамена на право вождения специально оборудованного автомобиля и других льгот, которым отныне предстояло стать частью ее жизни. В состав досье входил документ, подтверждающий наличие стабилизированного, но необратимого повреждения спинного мозга. Жак и Мари-Од как могли оттягивали момент сбора всех документов воедино: часть из них подписывали они сами, другие подмахнула Жюльетт, не вдаваясь особо в их содержание. Удостоверение инвалида она получила за несколько дней до своего дня рождения.
В восемнадцать лет этой очаровательной девушке спортивного типа пришлось осознать, что она уже никогда не сможет ходить, как все остальные люди. Одна нога станет совершенно безжизненной, вторая будет едва шевелиться: ей придется волочить их, опираясь на костыли, и она не сможет раздвинуть их сама, когда впервые займется любовью. Для этого ей тоже понадобится помощь, так же, как выбраться из ванны или подняться по лестнице. Во время похорон в одной из речей прозвучала мысль, что склонность Жюльетт к правосудию была связана с несправедливостью, выпавшей на ее долю. Тем не менее, когда родители решили подать в суд на центр лучевой терапии, Жюльетт — уже тогда студентка Национальной школы по подготовке и совершенствованию судебных работников — этому воспротивилась. Она считала, что нет никакой разницы, как человек становится инвалидом — по болезни или в результате лечения, и бессмысленно считать одно более несправедливым, чем другое. Говорить о несправедливости в данном случае просто неуместно: да, очень жаль, произошло несчастье, но правосудие тут ни при чем. Чтобы свыкнуться со своей инвалидностью, она предпочитала забыть о ее причинах и вероятных виновниках.
Понимая, что это навсегда, она терпеть не могла, когда ее начинали утешать: как знать, может, все образуется. Мать Патриса, движимая наилучшими побуждениями, надеялась, что в один прекрасный день щелкнет какой-то тайный замочек, и ноги Жюльетт снова подчинятся ее воле. Сторонница нетрадиционной медицины, она настояла, чтобы невестка посетила целительницу. Та сначала делала руками какие-то пассы, затем показала Патрису, как делать массаж спины: сверху вниз, очень медленно, а в районе крестца сделать движение, будто что-то собираешь, и с силой стряхнуть с рук негативную энергию, рассеивая ее в пространстве. В течение нескольких недель Патрис тщательно выполнял полученные инструкции и ожидал положительных сдвигов. Жюльетт получала удовольствие от массажа как такового, но не рассчитывала на улучшение своего состояния. В конце концов, она сказала ему об этом, и добавила, что ей бы не понравилось, если б ее таскали в портшезе по горным тропкам или по пляжам в Ландах[46],уговаривая поплескаться в волнах, словно от этого ей станет лучше. Есть другие, не менее приятные для нее вещи, и без этих фокусов. Ее не интересовали гаджеты, позволяющие безногому кататься на лыжах или взбираться на Монблан, какими бы хитроумными они ни были. Это не для нее. Патрис все понял и распростился с мыслью увидеть ее когда-нибудь стоящей на своих ногах. Он любил ее такой, какая она есть.
~~~
Эта история произошла в кабинете Этьена в шесть вечера спустя несколько месяцев после их знакомства. У обоих выдался трудный день. Этьену надо было ехать домой в Лион, Жюльетт — в Розье, но она уже знала, что перед уходом Этьен любил посидеть в кресле с закрытыми глазами, не двигаясь. Он не думал ни о чем конкретном — ни о том, что было сделано за день, ни о том, что предстоит делать завтра; если же мысли о работе и посещали его, то лишь мимоходом, их тут же вытесняли другие. Жюльетт нравилось составлять ему компанию в такие моменты, и он, до сих пор предпочитавший наслаждаться одиночеством, с удовольствием ждал ее визитов. Иногда они разговаривали, иногдапросто молчали: с этим проблем у них никогда не возникало. Но в тот вечер, едва она вошла в кабинет и села, прислонив костыли к подлокотнику кресла, Этьен почувствовал — что-то случилось. Но Жюльетт заверила его, что все в порядке. Он продолжал настаивать. В конце концов она сдалась и рассказала об инциденте, происшедшем днем. Инцидент — слишком сильно сказано, скорее небольшая напряженность, но она восприняла ее довольно болезненно. Жюльетт попросила одного из судебных исполнителей принести из ее машины папки с делами, тот вздохнул и отправился выполнять просьбу. Вот и все. Он ничего не сказал, просто вздохнул, но этот вздох говорил, — во всяком случае, так восприняла Жюльетт — что его раздражает обязанность оказывать ей услуги, потому что она инвалид. «А я, — горько заключила девушка, — всегда старалась не злоупотреблять…»
Этьен перебил ее: «Ну и зря. Наоборот, тебе следовало бы больше пользоваться своим положением. Не стоит попадать в эту ловушку и стесняться жизни, изображая из себя инвалида, который поступает так, будто он и не инвалид вовсе. Уясни себе раз и навсегда: люди должны оказывать тебе всякие мелкие услуги, кстати, они обязаны это делать, и в большинстве случаев с удовольствием тебе помогают, потому как счастливы, что не оказались на твоем месте. Не стоит на них за это сердиться — стоит только начать и уже не остановишься, но это правда».
Жюльетт улыбнулась, его пылкость часто забавляла ее. На этом можно было бы закрыть тему, но в тот вечер Этьена понесло, и он спросил: «Тебе это надоело, а?»
Она пожала плечами.
«Мне тоже, — продолжил он. — Мне это надоело».
Пересказывая мне события того вечера, он повторил: «Мне это надоело».
Потом Этьен объяснил: «Это очень простая, но крайне важная фраза, потому что с ее помощью человек ограничивает сам себя. Он запрещает себе не только произносить ее, но, насколько возможно, даже думать о ней. После мысли „мне это надоело“ очень скоро приходит констатация факта: „это несправедливо“ и „я мог бы жить иначе“. Но тут таится опасность. Стоит подумать „это несправедливо“, как нормальной жизни приходит конец. Когда начинаешь размышлять, что все могло бы быть иначе, что ты мог бы бегать как все, чтоб успеть на метро, или играть в теннис со своими детьми, это значит только одно — твоя жизнь пошла под откос. Мысли „мне это надоело“, „это несправедливо“ и, наконец, „жизнь могла бы сложиться по-другому“ ведут в тупик. Тем не менее, они существуют, и едва ли есть смысл лезть из кожи вон, делая вид, будто это не так. Свыкнуться с ними непросто».
Справиться с собой не так уж сложно, но главное — не говорить об этом с другими. Они заметили, что это правило справедливо для них обоих. Говоря о других, они имеют в виду в первую очередь Натали — для него, и Патриса — для нее. В принципе, они могут выслушать все, но эти мысли все же лучше держать при себе, ибо они причиняют им боль, боль с примесью печали, бессилия и вины, поэтому надо стараться не передавать ее тем, кого любишь. В то же время не стоит перегибать палку, чересчур сдерживая свои эмоции. «Иногда, — признался Этьен, — я распускаюсь в присутствии Натали. Кричу, что мне все надоело, что слишком тяжело и несправедливо жить с пластмассовой ногой, что от этого мне хочется плакать. И я, действительно, плачу. Такое происходит, когда жизнь давит чересчур сильно — примерно раз в три-четыре года, потом все нормализуется до следующего раза. Ну, а ты? Ты говоришь так иногда Патрису?»
«Иногда».
«И ты плачешь?»
«Бывает».
Во время разговора по щекам у обоих безудержно текли слезы. Этьен и Жюльетт ничуть не стыдились их и даже испытывали чувство облегчения и радости. Когда можешь сказать «это так тяжело», «это несправедливо», «надоело», не опасаясь, что собеседник почувствует себя виноватым, когда можешь быть уверенным — привожу слова Этьена, — что другой человек услышал то, что ему сказали, и ничего больше, и не ищет в сказанном скрытого подтекста — это огромная радость, невероятное облегчение. Поэтому они не пытались унять слез. Они понимали или догадывались, что такой срыв возможен только раз, и другого они больше не допустят, ибо в нем уже не будет искренности. Но в тот вечер они дали волю чувствам.
«Когда захожу в туалет, — сказал Этьен, — я начинаю считать теннисные очки. Придаю им видимую форму. Я не играл в теннис с двадцати лет, но в уме все еще продолжаю играть и знаю, что буду испытывать тягу к теннису до конца жизни».
«А я, — подхватила Жюльетт, — без ума от танцев. Я обожала танцевать, занималась танцами до семнадцати лет — это не много, а в семнадцать узнала, что больше никогдане смогу танцевать. Месяц назад была свадьба у брата Патриса, я смотрела, как танцуют другие, и завидовала им до смерти. Я улыбалась, я их любила, мне нравилось быть там, но потом музыканты заиграли YMCA, ее крутили все время, когда у меня были ноги. Помнишь: Уай-эм-си-эй! Я бы отдала десять лет жизни за то, чтобы потанцевать пять минут пока звучит эта песня».
После того, как они вдоволь наоткровенничались, Жюльетт серьезно сказала: «В то же время, не случись со мной несчастья, я бы, наверное, не встретилась с Патрисом. Конечно, нет. Я бы даже не обратила на него внимания. Мне нравились мужчины совсем другого типа: блестящие, уверенные в себе кавалеры: такие больше мне подходили, потому что я была девушкой красивой и заметной. Не скажу, что инвалидность сделала меня умнее и глубже, но именно благодаря ей я нашла Патриса, благодаря ей у нас растут дочери; я ни о чем не сожалею и ни в чем не раскаиваюсь, наоборот: не проходит и дня, чтобы я не подумала: у меня есть любовь. Все гоняются за ней, а я не могу бегать, но она уменя есть. Я люблю эту жизнь, я люблю свою жизнь, люблю ее такой, какой она есть. Понимаешь?»
«Еще как, — ответил Этьен. — Я тоже люблю свою жизнь. Именно поэтому я не могу сказать Натали: мне все надоело. Если она услышит это, то подумает, что я хотел бы какую-то другую жизнь, и, не имея возможности дать ее мне, будет переживать. Но слова „мне все надоело“ вовсе не означают, что человек хотел бы жить другой жизнью, или же испытывает грусть. Вот ты сейчас грустишь?»
Она уже не грустила.
~~~
Между ними было много общего. Оба пережили страдания, понятные лишь тем, на чью долю они выпали. Оба принадлежали одному миру. Родители обоих были парижанами, выходцами из буржуазной среды, учеными и христианами, только родители Жюльетт придерживались правых взглядов, а Этьена — левых, но это различие ничего не значило по сравнению с одинаково высокой оценкой места, занимаемого семьями в своей среде. Оба заключили брак с представителями более скромной социальной прослойки, как говорили в их кругу (примечание Этьена: «не в моем»), и искренне любили своих избранников. Браки стали центром притяжения жизни каждого из них, отправной точкой их существования. Оба имели этот прочный фундамент, и были бы сильно удивлены, услышав — до того, как произошла их встреча, — что им чего-то не хватает. Но это «что-то» они обрели вдолжный момент с восторгом и благодарностью. Этьен, верный своей манере противоречить собеседникам, не признавал слова дружба, но я сказал, что быть друзьями означает то же самое, причем настоящий друг — явление столь же редкое и бесценное, как настоящая любовь. Несомненно, отношения между мужчиной и женщиной выглядят более сложными, потому что к ним примешивается желание, а с ним и любовь. Что касается Жюльетт и Этьена, то тут мне сказать нечего, разве что констатировать: Патрис с одной стороны, Натали с другой поняли, что впервые в жизни их супругов появились другие люди, достойные внимания, и полностью их поддержали.
Кроме приведенного выше разговора, бесед личного характера они больше не вели. В дальнейшем их общение касалось исключительно работы. Есть люди, которым нравится работать с конкретным человеком, точно так же, как другим нравится заниматься любовью с конкретным человеком. После смерти Жюльетт Этьен понял, что навсегда сохранит память о существовавшем между ними взаимопонимании. Между ними не было никакого физического контакта, если не считать рукопожатия в начале первой встречи. Больше они никогда не прикасались друг к другу: не обнимались в знак приветствия, даже не обменивались кивком головы, не здоровались и не прощались. Расставаясь на день или уезжая на месяц в отпуск, они встречались так, словно один из них возвращался из соседнего кабинета, куда выходил минутой раньше за папкой с документами. Но, по словам Этьена, в сложившейся между ними манере совместного ведения дел было что-то чувственное и сладострастное. Они оба обожали момент, когда вскрывалось слабое место, когда умозаключения выстраивались в стройную цепочку. «Мне нравится, — говорила Жюльетт, — когда в твоих глазах появляется блеск».
Их стиль работы, как судей, различался во всех отношениях. Жюльетт выглядела уравновешенной, степенной и всем своим видом внушала доверие. Она всегда начинала судебное заседание с разъяснения процедуры его проведения и юридических тонкостей: что такое правосудие, почему присутствующие собрались в этом зале, принцип оценки доказательств и принцип состязательности. Если требовалось повторить разъяснения, она терпеливо начинала все с начала. Она не торопилась, всегда помогала подсудным, плохо понимавшим тонкости судопроизводства или не способным точно изложить свои мысли. Этьен, наоборот, был резок и временами груб: он мог оборвать адвоката, заявив ему: «Я вас хорошо знаю, мэтр, и мне известно, что вы сейчас скажете, не стоит продолжать. Заседание закончено». С его слушаний люди выходили обескураженными, со слушаний под председательством Жюльетт — успокоенными. Различия прослеживались и в стиле их судебных постановлений, говорил мне Этьен. У Жюльетт, по его мнению, они были классическими, четкими, сбалансированными, у него — скорее романскими: шероховатыми, неровными, с перепадами тона. Я хотел бы почувствовать это, но, к сожалению, мое ухо не так хорошо натренировано, чтобы улавливать подобные нюансы.
Они вели одни и те же сражения, точнее, Жюльетт присоединилась к битвам Этьена в области жилищного права и особенно права потребления, но, я думаю, их подтолкнули к этому разные причины. Если такой блестящий человек, как Этьен, выбрал для себя суд малой инстанции, провинцию и мелкие дела, то, мне кажется, он поступил так из предпочтения быть первым в своей деревне, чем вторым или сотым в Париже, в зале суда присяжных. Евангелие, Лао-цзы[47]и Книга Перемен в один голос призывают «способствовать малому», но когда люди вроде Этьена или меня придерживаются такой линии поведения, то это явно продиктованотревожной и досадной склонностью к величию, и за подобной ангажированностью я вижу авторское тщеславие, стремление к признанию применительно к темам, которые представляются мне просто смехотворными, — можно подумать, будто авторское тщеславие, терзающее меня самого, распространяется на нечто несравнимо более достойное.
У Жюльетт таких проблем не было. Ее устраивала безвестность, как и то, что Этьен выступал в роли ее наставника и глашатая. Они вместе всесторонне обсуждали судебныепостановления, и те, что принадлежали ему, появлялись в юридических изданиях под его именем. Этьен не раз предлагал ей опубликовать свои собственные постановления, выйти из тени, но она не соглашалась. Я думаю, ею двигало бескорыстное отношение к правосудию и неожиданное удовлетворение от работы судьей несмотря на неодобрительное отношение мужа. Они много говорили о политике, как, впрочем, и обо всем остальном. По основным проблемам расхождений во мнениях у них не было, зато по отношению к различным организациям Патрис высказывался крайне негативно и критиковал их за все, что бы они ни делали, так что в семье Жюльетт приходилось брать на себя незавидную роль блюстителя порядка. Тем не менее, она считала, что проделала большой путь по сравнению со средой происхождения. Она голосовала за социалистов или за зеленых, когда те не слишком докучали социалистам, по рекомендации мужа читала статьи в «Политис» и «Ле Монд Дипломатик», но в глазах Патриса этого было недостаточно, и Жюльетт не видела причин, чтобы целиком и полностью разделять ценности его социальной среды. Несмотря на приверженность буржуазному образованию, в чем упрекал ее супруг, именно от нее он узнал формулировку — образец классики в Национальной школе по подготовке и совершенствованию судебных работников, согласно которой Уголовный кодекс — это то, что мешает бедным грабить богатых, а Гражданский кодекс — это то, что позволяет богатым грабить бедных, и она первая признала, что в ней заключалась немалая доля истины. Вступая на должность в суде малой инстанции, Жюльетт полагала, что ей придется утверждать несправедливый общественный порядок, однако благодаря Этьену она оказалась на острие увлекательной, смелой борьбы в защиту вдов и сирот. Конечно, она отвергала эту риторику, говорила, что занимает нейтральную позицию и ее заботит только соблюдение закона, но отныне «судья из Вьена», как начинали писать в справочниках по судопроизводству, представлял собой двух хромых, а не одного.
После прихода Жюльетт на место Жан-Пьера Риё работать в суде стало тяжелее. Кредитные учреждения, недовольные действиями горстки судей с левыми взглядами, систематически оказывавших поддержку несостоятельным заемщикам, подавали апелляции на вынесенные судебные постановления. Дела передавались на рассмотрение в Кассационный суд. И с не меньшим постоянством Кассационный суд, известный своими правыми настроениями, признавал недействительными постановления суда малой инстанции. Бедолаги, радовавшиеся избавлению от процентов и штрафных неустоек, в конце концов узнавали, что рано радовались: судья поглавнее надавал по рукам хорошему судье, и теперь придется платить все. Для этого Кассационный суд использовал два приема и, чтобы разобраться в них, потребуется вникнуть в некоторые технические тонкости.
Первый прием — потеря права на обращение в суд в связи с истечением установленного срока. Закон гласит, что кредитор должен принимать меры в течение двух лет послепервого факта неплатежа, в противном случае он теряет право на подачу иска, и его посылают куда подальше. Смысл состоит в том, чтобы лишить кредитора возможности объявиться через десять лет и потребовать возврата огромных сумм, накопившихся с его же попустительства, и при том, что он ни разу не призвал должника к порядку. Конечно, эта мера защищает должника. Но Кассационный суд уточняет: необходимо соблюдать разумный баланс, и обе стороны должны находиться в одинаковых условиях, то есть у должника тоже есть два года, чтобы оспорить законность договора после его подписания. По истечении двух лет — до свидания, должник лишается права обращаться в суд сжалобой. Не знаю, какие мысли роятся в голове читателя, если он внимательно прочитал написанное выше. Не исключено, что на моей оценке этих юридических, а также политических и моральных нюансов сказывается чересчур сильное влияние Этьена. Между тем, мне не понятно, как можно не замечать очевидного дисбаланса подобного равновесия. Ведь именно кредитор всегда подает в суд на дебитора, и никак иначе. Выходит, ему достаточно выждать два года, чтобы потом перейти в атаку, будучи в полной уверенности, что никто и слова не скажет против его контракта, какими бы противозаконными пунктами он ни был напичкан. Таким образом, чтобы оградить себя от неприятностей,заемщик должен знать о незаконности договора при его подписании. Он должен быть полностью информирован, тогда как дух закона запрещает пользоваться неосведомленностью человека.
Подобная трактовка закона, призванного защищать заемщика, в пользу заимодавца была серьезным ударом для Этьена, Флоре и примкнувшей к ним Жюльетт. Их постановления опирались на закон, но, когда дело доходило до его трактовки, последнее слово оставалось за Кассационным судом, и так происходило все чаще и чаще. Пространства для маневра почти не оставалось, а делать ставку на потерю права на обращение в суд в связи с истечением установленного срока не всегда представлялось возможным. Говоря шахматным языком, пара ладей грозила матом, но в качестве путей отхода еще оставались диагонали. Ситуация стала критической, когда в дополнение к ладьям противниквывел на игру ферзя. Ферзем Кассационного суда стало постановление, вынесенное весной 2000 года, согласно которому судья не мог по собственной инициативе фиксировать нарушение закона. Либеральная теория предстает во всей красе: нельзя иметь больше прав, чем просишь; для возмещения ущерба потерпевшая сторона должна обратитьсяв суд. Если в случае тяжбы между заемщиком и кредитором, первый не жалуется на договор, то судья не имеет права делать это вместо него. В либеральной теории все так, но в реальной жизни заемщик никогда не обращается в суд, потому что не знает законов, потому что не он подает иск, потому что в девяти случаях из десяти у него нет адвоката. Неважно, заявляет Кассационный суд, обязанности судьи — это обязанности судьи: он не должен вмешиваться в то, что его не касается; если он чем-то возмущен, то должен держать свои чувства при себе.
Этьен, Флоре и Жюльетт были возмущены, но лишены свободы действий; те из должников, кого они тешили напрасными надеждами, пребывали в шоковом состоянии. Зато кредитные учреждения ликовали.
В один из октябрьских дней 2000 года Этьен сидел в своем кабинете и просматривал юридические издания. На глаза ему подвернулось постановление Суда Европейских сообществ[48]с обширными комментариями, и он начал читать — сначала рассеянно, потом все более и более внимательно. Предметом рассмотрения был договор на потребительский кредит, предусматривавший перенос любых споров в суд Барселоны, где располагался офис кредитного учреждения. Выходило, что по этой причине потребитель, проживающий в Мадриде или Севилье, должен был ехать в Барселону, чтобы выступить в свою защиту? Противозаконность данного пункта договора бросилась в глаза судье из Барселоны, и он указал на нарушение. Но в Испании судья тоже не имеет права предпринимать подобные действия по собственной инициативе, поэтому он передал дело в Суд Европейских сообществ. СЕС вынес свое постановление. И теперь Этьен изучал опубликованный документ. Не дочитав до конца, он вышел из кабинета и спустился на первый этаж. Там в большом зале с приемной проходило судебное заседание под председательством Жюльетт. Этьен приоткрыл дверь и взмахом руки позвал ее. Жюльетт, как та актриса, чье внимание пытаются привлечь из-за кулис в самый разгар представления, ничего не поняла и продолжила заниматься своим делом. Но Этьен настойчиво махал рукой. К великому удивлению секретарши, судебного исполнителя и сторон, противостоявших друг другу в деле о неисправном бытовом насосе-измельчителе, Жюльетт приостановила заседание и,вооружившись костылями, заковыляла к двери в приемную, где ее ждал Этьен. «Что случилось?» «Посмотри на это», — он протянул ей журнал. Она начала читать.
«Что касается вопроса, может ли суд, рассматривающий дело, связанное с договором, заключенным между специалистом и потребителем, устанавливать в рабочем порядке противозаконный характер какого-либо пункта данного договора, следует помнить, что система защиты, внедренная в практику европейской директивой, основывается на идее, что потребитель существенно уступает специалисту в том, что касается как умения заключать сделки, так и уровня информированности. Цель директивы, обязывающей страны-члены сообщества принимать меры к тому, чтобы противозаконные пункты не связывали потребителей, не может быть достигнута, если последние вынуждены самостоятельно вскрывать их неправомерный характер. Таким образом, эффективная защита потребителя будет обеспечена только тогда, когда судья национального суда получит возможность фиксировать такие пункты по собственной инициативе».
Уфф. В фильме сцену чтения этих строк главной героиней сопровождала бы напряженная музыка, усиливающая драматический накал происходящего. Зритель видит крупным планом губы героини, приоткрывающиеся по мере чтения; сначала ее лицо выражает растерянность, затем недоверие и, наконец, восторг. Она переводит взгляд на героя и лепечет что-то вроде: «Но как… что это значит?»
Герой — спокойный и сильный — на виде с обратной точки: «Там все написано».
Я шучу, конечно, и все-таки есть что-то комичное в противопоставлении этой неудобоваримой прозы и вызванной ею бури чувств, но точно так же можно насмехаться практически над всеми человеческими начинаниями и затеями при условии, что сам не принимаешь в них участие. Этьен и Жюльетт вели борьбу, исход которой влиял на жизнь десятков тысяч простых людей. На протяжении нескольких месяцев они терпели одно поражение за другим и уже были готовы признать себя побежденными, как вдруг Этьен нашел неожиданный ход, способный изменить ход битвы. Когда мелкий чиновник глумится над тобой: «Будет так, как я сказал, и никак иначе; я ни перед кем не должен отчитываться», — всегда приятно обнаружить, что у него есть большой начальник, и этот начальник признает твою правоту. Мало того, что Суд Европейских сообществ не согласился с решением Кассационного суда, но он занимал еще и более высокое положение в европейской судебной иерархии: право сообществ имеет приоритет перед национальным правом. Этьен не разбирался в праве Европейских сообществ, но оно ему уже нравилось. Он даже начал развивать теорию и, если память мне не изменяет, изложил ее в день смерти Жюльетт: чем выше уровень правовых норм, тем более щедры и близки они к великим принципам, установленным Правом с большой буквы «п». Государства творят мелкие гадости с помощью декретов, тогда как Конституция или Декларация прав человека и гражданина объявляют их вне закона и поднимаются на вершину добродетели. К счастью, Конституция или Декларация прав человека обладают гораздо большим весом по сравнению с декретом, поэтому было бы глупо не воспользоваться этим козырем, чтобы положить конец проискам лакеев или даже их господина. Спору нет, кредитор имеет право заставить должника вернуть долг, но вести достойную жизнь — такое же право, и, решая, на чью сторону стать в споре, нужно помнить, что второе является частью более высокой юридической нормы, и потому приоритет за ним. Так же обстоит дело, с одной стороны, с правом домовладельца взимать арендную плату, и с другой — с правом нанимателя иметь крышу над головой. Благодаря борьбе, что на протяжении многих лет ведут судьи вроде Этьена и Жюльетт, последнее становится противопоставляемым, то есть, на практике, получает превосходство над первым.
Этьен заметно разволновался, в глазах появился блеск. Жюльетт сказала ему об этом: ей нравилось, когда его глаза блестели. Волнение Этьена передалось и ей, но она старалась держать себя в руках: в их команде именно ей отводилась роль реалиста, твердо стоящего на земле. «Нужно все спокойно обдумать», — сказала она. Кому-то может показаться, что обращаться к помощи европейского права в борьбе против национальной судебной практики — ничего не стоит, на самом деле это далеко не так, такое обращение может обойтись очень дорого. Против этой судебной практики выступали ассоциации потребителей и, не без активной помощи Флоре, вели с ней затяжную окопную войну. Блицкриг, задуманный Этьеном и Жюльетт, в случае провала грозил свести их длительную работу на нет. Если СЕС скажет «нет», кредитные учреждения окончательно одержат верх.
Несколько дней прошли в лихорадочной суете, телефонных переговорах и электронной переписке с Флоре и профессором права Европейского сообщества Бернадетт ле Бо-Феррарез: после первой же консультации она всерьез заинтересовалась возникшей ситуацией. Она считала, что ответ Суда Европейских сообществ не гарантирован, но попробовать стоит. Это все равно ждать президентского помилования накануне казни: либо пан, либо пропал. В конце концов, они решили действовать. Кто начнет? Кто будет писать провокационное судебное постановление? Это мог быть любой из них троих, но тут все было ясно заранее: Этьен просто обожал идти в первых рядах.