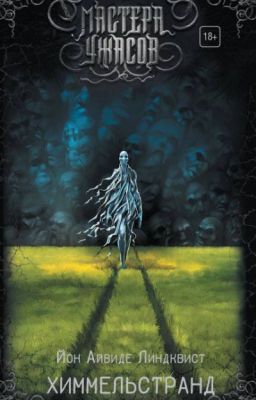глава 11
Майвор нисколько его не осуждала. Для непривычного человека – малоприятное зрелище. Она посмотрела на клейкие от крови руки и удивилась собственному спокойствию.
– Здорово вы это, – сказал Леннарт. – Вы из тех, кто в случае чего грудью встает, или как?
Вообще-то так оно и есть, но редко кто замечал эту сторону ее характера, и еще реже кому-то приходило в голову ее похвалить. Майвор почувствовала, что краснеет, – совершенно неуместно в таком положении.
Вернулся Улоф, вытер рот и извинился.
Некоторое время все трое смотрели на Изабеллу, как будто она была произведением искусства, созданным не кем-то, а ими самими. Вернее, не созданным, а отреставрированным и, надо надеяться, спасенным для грядущих поколений.
Леннарт принес одеяло и укрыл Изабеллу. Ее грудная клетка еле заметно поднималась и опускалась. Время от времени она издавала тихий скулящий звук.
– Почему она это сделала? – Улоф пожал плечами, не сводя глаз с Изабеллы. – Может, кто-то из вас понимает?
Леннарт сунул руки в карманы так, что подтяжки натянулись. Стаза его сузились.
– Майвор, – сказал он тоном, какой она не слышала почти никогда. Он говорил с ней как с равной – с уважением. Признавал в ней человека, с чьим мнением можно и нужно считаться. – Майвор, скажите, пожалуйста, – он кивнул на лежащие на траве фигуры. – Когда вы смотрите на... этих, кого вы видите?
Майвор посмотрела на неподвижно лежащих на траве Уилла Локхарта, Элвуда Дауда, Мистера Смита, который уехал в Вашингтон и, конечно, кролика Харви. Пока она перевязывала Изабеллу, в голове прояснилось, и теперь она понимала, что неожиданное воплощение ее эротических фантазий вовсе не безопасно. Но...
– Я бы охотнее всего не отвечала на этот вопрос, – сказала она.
– Нет, значит, нет... – согласился Леннарт, – Тогда я спрошу вот что: видите ли вы четырех совершенно одинаковых парней в костюмах? И в шляпах? Вон тех, что там лежат? Посмотрите внимательно...
Майвор не надо смотреть – она и так знает. Элвуд Дауд, конечно, в шляпе и в костюме. Мистер Смит выглядит точно так, как он выглядел, когда говорил свою нескончаемую речь в Конгрессе. Костюм – но никакой шляпы. А Уилл Локхарт в костюме? Даже смешно. Или кролик...
– Нет, – сказала она. – А что?
– Потому что я вижу именно их. Четверых в костюмах. И в шляпах. И ты тоже, Улоф, да? Или как? Четверо коммивояжеров.
Леннарт повернулся к Улофу, но тот его не слушал. Неотрывно смотрел на кемпер Изабеллы.
Майвор проследила за его взглядом, и ей стало стыдно. Молли! Какое бессердечие! Как она могла забыть про Молли! Конечно, пока они пытались спасти жизнь Изабеллы, было не до Молли, но сейчас же уже можно было вспомнить! Стоят и болтают, а девочке пришлось пережить такой ужас.
Она двинулась к девчушке, но замерла на полушаге. Молли тоже смотрела на лежащие на траве фигуры. Глаза ее были широко раскрыты. Щеки цвели румянцем, а на губах играла улыбка радости.
– Интересно... – медленно произнес Улоф. – Интересно, что видит она.
* * *
Рана на плече поверхностная, пластыря из автомобильной аптечки оказалось вполне достаточно. Пока Карина перевязывала Стефана, они сошлись на том, что, по всей видимости, имеют дело с некоей тягой, центробежной силой, влекущей их туда. И хватит. Будем держаться вместе
Они вернулись в машину. Эмиль забрался на колени Стефану, достал фигурки Дарта Мола и показал матери. И только когда она наклонилась, чтобы получше рассмотреть крошечных воинов, Стефан заметил ее опухшую щеку.
– Что случилось?
– Я подралась. С Изабеллой.
– Из-за чего?
Карина вздохнула и посмотрела в сторону лежащих на траве фигур.
– Долгая история.
– Время у нас есть.
– Потом расскажу... если решусь. – Карина похвалила фигурки, поцокала языком и вернула Эмилю. – Эмиль... я не разрешаю тебе играть с Молли.
– Почему?
Стефан посмотрел на Молли. Та даже ни разу не глянула на мать. Все ее внимание было приковано к фигурам на траве, и лицо... сияло.
– Слушай, что говорит мама, – сказал он. – И я говорю то же самое. Ты не будешь играть с Молли.
– Я и не хочу с ней играть. Но почему?
Карина нежно взяла Эмиля за подбородок и повернула к себе.
– Потому что она злая, Эмиль. Она очень злая.
– Ну, не то чтобы... Это же... – начал было Стефан, но Карина отпустила подбородок Эмиля и предупреждающе подняла ладонь.
– Нет, – решительно сказала она. – Тут не о чем говорить. Что-то связывает ее с этим местом и со всеми этими... привидениями. Я не понимаю, что, да мне и не надо понимать. Но ты даже близко к ней не подойдешь, Эмиль! Она опасна!
Карина говорила все громче и громче, и Эмиль заметно испугался. Стефану тоже стало не по себе – паника жены заразила и его. Он погладил мальчика по спине и спросил Карину, стараясь быть спокойным:
– Что ты видишь? Я имею в виду... когда ты смотришь на этих?
Карина заставила себя посмотреть на лежащие фигуры, и все тело ее напряглось. Она покачала головой.
– Это долгая история...
Наступило тягостное молчание.
Стефан пожалел, что спросил, и решил сменить тему.
– Они идут по линии. Интересно...
Он хотел спросить, где же кончается эта линия, но Карина не дала ему закончить. Она прикрыла ему рот рукой, а другой махнула в поле.
– Что?
– Давай поменяемся местами. Мне кажется, когда я шла по лагерю...
Она завела мотор, сдала назад метров двадцать, свернула направо и очень медленно, внимательно вглядываясь в траву, двинулась по дуге вокруг кемперов.
– Вот! – она махнула рукой в ту сторону, откуда явились призраки. – Видишь? Ты же тоже видишь?
Стефан пригляделся и ничего не увидел. Ровная, подстриженная трава, никаких холмиков, никаких ям или ухабов, ничего, что привлекло бы взгляд. Он уже хотел признаться, что не видит ровным счетом ничего, но его остановил крик Эмиля.
– Я вижу! В траве, да?
Карина молча кивнула.
Стефан присмотрелся. Теперь увидел и он: след. Еле заметный след примятой травы, уходящий к горизонту. Скорее всего, он продолжался и в другую сторону, потому что в точности совпадал с линией, откуда пришли Белые. И хотя след был еле заметен, совершенно очевидно, что протоптала его не одна пара ног, и, скорее всего, с давних времен.
– Тропа, – медленно сказал Стефан, обдумывая поразившую его мысль, – Это тропа. И она была и до нас. Они шли по ней всегда.
– Да... – скорее всего, да. – Карина поехала дальше. – Но это не то, что я видела.
Она проехала по дуге, соединяющей сектор примерно в девяносто градусов.
– Вот, – она показала на траву и потом на горизонт.
Теперь Стефан знал, что искать, и увидел сразу. Еще одна тропа вела из лагеря, или в лагерь – как посмотреть. Точно под прямым углом к той, которую они уже видели. Никаких сомнений – эта тропа тоже проходит через лагерь. Он прищурился и посмотрел на горизонт.
Пусто. По этой тропе пока никто не приходил. Но кто-то... кто-то же ее протоптал...
– Ты понял?
– Да...
Словно бы кто-то открыл дверь сзади него – по спине прошел ледяной сквозняк. Он покрепче прижал к себе Эмиля.
– Здесь тропы встречаются. Мы стоим на перекрестке.
* * *
Карина показала как раз туда, где находился Петер, но он, конечно, об этом не знал. И она тоже не знала, но если продолжить ее жест и провести прямую линию, то Петер отклонился от этой линии самое большее на пару десятков метров.
Он остановил машину, но выйти не решался. Перед ним стояла сплошная стена мрака. Чтобы понять, как высоко уходит она в небо, ему пришлось наклониться и изогнуть шею. В зеркале заднего вида, в боковых зеркалах – безупречно синее небо, а перед ним – непроницаемая стена тьмы, как будто стекло закрасили черным печным лаком.
Перед радиатором и дальше – зеленая трава. Такая же, как и везде, с той только разницей, что у нее есть предел. Двести метров, не больше. Дальше – темная стена. Нет, пожалуй, не так. Не темная стена, а стена тьмы. Именно стена тьмы, потому что, несмотря на свою гомогенность, она кажется живой, у нее есть глубина. Если бы он нажал на газ и очертя голову погнал на эту стену, не последовало бы никакого удара. Он продолжал бы ехать. Куда? Неизвестно.
А почему бы нет? Петер с трудом сдерживал желание именно так и поступить. Притяжение сгустившегося перед ним мрака было настолько велико, что он боялся выйти из машины, боялся, что его засосет этот мрак, как пылесос засасывает дохлую муху. И так у него было ощущение, что к каждому сантиметру его кожи протянулись тысячи невидимых нитей, которые неумолимо тащат его туда, в черноту.
Он уперся ногами в пол и судорожно вцепился в баранку, не отрывая глаз от сосущей тьмы. И темнота молча уставилась на него. Петеру начало казаться, что он может различить в компактном мраке какую-то структуру, нюансы. Она теплая, эта стена, влажная и мягкая. И пахнет гелем для душа. Гелем для душа и дезинфекцией.
Анетт.
Да, несомненно. У этой тьмы запах Анетт.
Петеру было семнадцать, когда он прошел отбор в юношескую сборную страны. Отец к тому времени нашел новую женщину и вскоре избил ее так, что его посадили на четыре года. До конца срока оставалось еще два, так что Петер и мама впервые за десять лет могли не оглядываться и не чувствовать его взгляд на спине.
Карина говорила все громче и громче, и Эмиль заметно испугался. Стефану тоже стало не по себе – паника жены заразила и его. Он погладил мальчика по спине и спросил Карину, стараясь быть спокойным:
– Что ты видишь? Я имею в виду... когда ты смотришь на этих?
Карина заставила себя посмотреть на лежащие фигуры, и все тело ее напряглось. Она покачала головой.
– Это долгая история...
Наступило тягостное молчание.
Стефан пожалел, что спросил, и решил сменить тему.
– Они идут по линии. Интересно...
Он хотел спросить, где же кончается эта линия, но Карина не дала ему закончить. Она прикрыла ему рот рукой, а другой махнула в поле.
– Что?
– Давай поменяемся местами. Мне кажется, когда я шла по лагерю...
Она завела мотор, сдала назад метров двадцать, свернула направо и очень медленно, внимательно вглядываясь в траву, двинулась по дуге вокруг кемперов.
– Вот! – она махнула рукой в ту сторону, откуда явились призраки. – Видишь? Ты же тоже видишь?
Стефан пригляделся и ничего не увидел. Ровная, подстриженная трава, никаких холмиков, никаких ям или ухабов, ничего, что привлекло бы взгляд. Он уже хотел признаться, что не видит ровным счетом ничего, но его остановил крик Эмиля.
– Я вижу! В траве, да?
Карина молча кивнула.
Стефан присмотрелся. Теперь увидел и он: след. Еле заметный след примятой травы, уходящий к горизонту. Скорее всего, он продолжался и в другую сторону, потому что в точности совпадал с линией, откуда пришли Белые. И хотя след был еле заметен, совершенно очевидно, что протоптала его не одна пара ног, и, скорее всего, с давних времен.
– Тропа, – медленно сказал Стефан, обдумывая поразившую его мысль, – Это тропа. И она была и до нас. Они шли по ней всегда.
– Да... – скорее всего, да. – Карина поехала дальше. – Но это не то, что я видела.
Она проехала по дуге, соединяющей сектор примерно в девяносто градусов.
– Вот, – она показала на траву и потом на горизонт.
Теперь Стефан знал, что искать, и увидел сразу. Еще одна тропа вела из лагеря, или в лагерь – как посмотреть. Точно под прямым углом к той, которую они уже видели. Никаких сомнений – эта тропа тоже проходит через лагерь. Он прищурился и посмотрел на горизонт.
Пусто. По этой тропе пока никто не приходил. Но кто-то... кто-то же ее протоптал...
– Ты понял?
– Да...
Словно бы кто-то открыл дверь сзади него – по спине прошел ледяной сквозняк. Он покрепче прижал к себе Эмиля.
– Здесь тропы встречаются. Мы стоим на перекрестке.
* * *
Карина показала как раз туда, где находился Петер, но он, конечно, об этом не знал. И она тоже не знала, но если продолжить ее жест и провести прямую линию, то Петер отклонился от этой линии самое большее на пару десятков метров.
Он остановил машину, но выйти не решался. Перед ним стояла сплошная стена мрака. Чтобы понять, как высоко уходит она в небо, ему пришлось наклониться и изогнуть шею. В зеркале заднего вида, в боковых зеркалах – безупречно синее небо, а перед ним – непроницаемая стена тьмы, как будто стекло закрасили черным печным лаком.
Перед радиатором и дальше – зеленая трава. Такая же, как и везде, с той только разницей, что у нее есть предел. Двести метров, не больше. Дальше – темная стена. Нет, пожалуй, не так. Не темная стена, а стена тьмы. Именно стена тьмы, потому что, несмотря на свою гомогенность, она кажется живой, у нее есть глубина. Если бы он нажал на газ и очертя голову погнал на эту стену, не последовало бы никакого удара. Он продолжал бы ехать. Куда? Неизвестно.
А почему бы нет? Петер с трудом сдерживал желание именно так и поступить. Притяжение сгустившегося перед ним мрака было настолько велико, что он боялся выйти из машины, боялся, что его засосет этот мрак, как пылесос засасывает дохлую муху. И так у него было ощущение, что к каждому сантиметру его кожи протянулись тысячи невидимых нитей, которые неумолимо тащат его туда, в черноту.
Он уперся ногами в пол и судорожно вцепился в баранку, не отрывая глаз от сосущей тьмы. И темнота молча уставилась на него. Петеру начало казаться, что он может различить в компактном мраке какую-то структуру, нюансы. Она теплая, эта стена, влажная и мягкая. И пахнет гелем для душа. Гелем для душа и дезинфекцией.
Анетт.
Да, несомненно. У этой тьмы запах Анетт.
Петеру было семнадцать, когда он прошел отбор в юношескую сборную страны. Отец к тому времени нашел новую женщину и вскоре избил ее так, что его посадили на четыре года. До конца срока оставалось еще два, так что Петер и мама впервые за десять лет могли не оглядываться и не чувствовать его взгляд на спине.
Анетт рассказывала об играх за сборную, об интригах в руководстве – но у него опять возникло такое же чувство, как и тогда, когда он впервые прикоснулся к ее руке. Здесь и сейчас.
Петер был уверен, что это ощущение односторонне, что она ничего подобного не испытывает, что у него навязчивая идея, которую он даже и определить-то толком не может. Не может же быть, чтобы он ни с того ни с сего возжелал Анетт, – она была чуть не вдвое старше и похожа на его учительницу шведского в гимназии.
На десерт они взяли мороженое с шоколадным соусом. Разговаривали о чем-то с ребятами напротив, смеялись, и вдруг Петер почувствовал что-то вроде слабого разряда статического электричества, легкую щекотку, отчего волосы на предплечье встали дыбом. Он покосился на Анетт – ее рука лежала на столе рядом с его. Но главное – у нее тоже поднялись волосы на руке, легкие пушистые волосики стояли почти вертикально. Оба – и он, и она – перекинулись парой слов с соседями по столу и посмотрели друг на друга. Петер словно спрашивал ее – что это было? Ты ведь тоже это чувствуешь?
Он тогда не понимал, что она хотела сказать грустным, как ему показалось, взглядом. Посмотрела на его руку, на свою и опять подняла на него глаза.
Прошло много лет, прежде чем он понял эту грусть. Возраст... мне уже поздно, хотела сказать она, но у меня нет выбора, нет другого выхода. Я попробую убедить себя, что нет, еще не поздно, и буду поступать так, как будто еще не поздно.
Только через много лет он понял, что решение было принято именно в ту секунду, в момент таинственного электрического взаимодействия, но ни он, ни она не знали, что делать, чтобы произошло то, чего они хотели оба.
Ужин закончился. Начали расходиться. Петер встал из-за стола. У него пересохло во рту. Ребята обсуждали планы на вечер. Кто-то собирался в город, другие решили провести вечер за картами или у телевизора.
Петер отказался от всех предложений, сказал, хочет пробежать несколько кругов перед сном, что, естественно, вызвало смех.
– Говорят, рыба-молот должна все время плавать, иначе утонет.
– Хочешь опять пободаться со штангой?
И в том же духе.
Он вышел на поле, слабо освещенное дежурным прожектором. Решение оказалось правильным. Конечно, о серьезных нагрузках после ужина и речи быть не могло, но легкий бег в полутьме, когда не надо думать ни о чем, кроме ритма бега и баланса, его успокоил. Он пробежал уже половину пятого крута, когда увидел Анетт. Она стояла, прислонившись к стене, у выхода из раздевалки. Мгновенно возник приятный, но почти невыносимый зуд в паху, быстро распространившийся на солнечное сплетение. Ритм дыхания сбился. Он пересек поле и подбежал к ней.
У нее были влажные волосы, наверняка только что из душа. И не вытерлась как следует – на спортивном костюме влажные пятна.
У него мгновенно возникла эрекция. Он с мучительным чувством то ли стыда, то ли застенчивости сунул руку в карман брюк и прижал член к животу, чтобы скрыть ее.
– Привет.
– Привет, – тихо сказала Анетт. – Все нормально?
– Само собой... Немного прохладно, но... – он запнулся и покраснел, не зная, как продолжить разговор.
– Да, по вечерам прохладно, – сказала Анетт. Голос ее прозвучал странно, точно гортань ее была зашнурована наподобие футбольных бутсов. Она покачала головой и с сожалением в голосе произнесла: – Послушай, Петер...
Может быть, именно то, что она назвала его по имени, – подтвердила тем самым, что все это происходит наяву, а не во сне, – придало ему решимости сделать то, что он сделал. Вынул руки из карманов, обхватил ее голову, прижал к себе и поцеловал в губы.
На какую-то секунду ему показалось, что он все неправильно понял – она плотно сжала губы. И вот он стоит, упершись вибрирующим от напряжения членом в живот тренера сборной... какой стыд! И мало того, что стыдно, – если она даст делу ход, прощай еще не начавшаяся карьера в сборной страны...
Но уже в следующий миг все изменилось. Конечно, он и до этого целовался с девушками, два раза – но больше по обязанности, праздничный флирт, не более того. Но здесь было что-то совершенно другое. Когда губы Анетт раскрылись, когда она ответила на поцелуй, ему показалось, что все тепло ее тела перелилось в губы.
– Иди за мной, – сказала она.
Они вышли в коридор с раздевалками. Шли рядом, их тренировочные костюмы с волнующим шуршанием терлись друг о друга. Лампы в коридоре были погашены, а свет одинокого прожектора на футбольном поле сюда почти не достигал. Только слабо светились катафоты на костюмах. А когда Анетт открыла одну из раздевалок, пропустила его вперед и заперла за собой дверь, стало совершенно темно.
Здесь было жарко, воздух пропитан влагой из душевых кабин. В темноте все чувства обостряются, и Петеру, наверное, на всю жизнь запомнился запах геля для душа и какой-то дезинфицирующей жидкости из туалетов. Где-то капал кран. У Петера в голове назойливо, как комар, жужжала та же мантра – здесь и сейчас, но он не знал как. Жарко дыша, обнял ее за бедра, погладил ягодицы, но она отстранилась.
– Не надо. Разденься.
Он стянул с себя куртку и брюки и по шуршанию понял, что она сделала то же самое. Мало того – она стянула куртку через голову, отчего в волосах проскочило несколько еле заметных искорок. Он никак не мог сообразить, что это за гель, – «Ахе»?
– Ложись, – тихо приказала Анетт.
Петер много раз пробовал представить свой сексуальный дебют, но никогда не думал, что он будет таким. Но когда он в полной темноте лег на влажный пол, внезапно понял, что это куда лучше всех его фантазий. Это всерьез.
Мужской его орган буквально лопался от напряжения, ему даже показалось странным, что он его не видит. Казалось, что член раскален докрасна, и, если на него брызнуть водой, он зашипит. Но Петер ничего не видел, кроме плотной, вибрирующей темноты. Его окатила волна ее запахов. Она оседлала его, помогла направить член и начала медленно раскачиваться.
Это было так прекрасно, что Петер перестал дышать. Куда-то исчез бетонный пол, и стен как будто не было... только когда перед глазами заплясали желтые молнии, он сообразил, что едва не потерял сознание из-за недостатка кислорода. Он судорожно вдохнул, вошел в нее как мог глубоко, и ему представилось, что он занимается любовью не с Анетт, а с окружающей роскошной, безграничной чернотой. Он ощупывал ее далеко не совершенное, с валиками жира тело, но оно ему казалось пределом совершенства, потому что это было тело мрака.
Он даже не старался продлить наслаждение, не пытался выказать себя любовником высшего класса, не сдерживал оргазм – и потом не мог сказать, сколько времени прошло до того, как все его тело до кончиков пальцев напряглось до состояния почти невыносимой судороги, закончившейся облегчающим взрывом. Уронил руки, голова упала набок, широко открылись глаза. Пронзивший его электрический ток словно бы зажег лампочку, и он увидел перевернутый плакатик с надписью: «Последний гасит». Вдохнул на всю жизнь запомнившийся запах пота и геля и потерял сознание. Воссоединился с темнотой и влагой.
Двадцать два года назад. Двадцать два года и десять месяцев.
Они оделись в темноте, разошлись в темноте и на следующий день старались не глядеть друг на друга. Прошло несколько лет, у него было немало любовниц, он искал повторения, пока не понял – тот, первый, опыт был и навсегда останется непревзойденным.
В воскресенье Петер специально зашел в их раздевалку. У выхода рядом с выключателем висел написанный от руки плакатик. «Последний гасит». Он сорвал его и сунул в карман с намерением хранить вечно, но в бесчисленных переездах потерял.
А теперь, вцепившись в руль и упершись ногами в пол, он сидит в машине Дональда. Запах пролитого виски смешивается с запахом геля для душа, дезинфекции и с запахом тела возбужденной женщины. Там, в этом живом, зовущем мраке, – его место. Там есть все, что ему надо.
Кивнул сам себе, завел мотор и уже приготовился включить скорость, как что-то изменилось. В салоне машины потемнело, и он услышал странные звуки. Наклонился, посмотрел на небо и увидел, что верхний край стены начал менять форму. От нее отделялись клочья мрака. Они плыли по небу, росли и сливались. Стало почти темно. И стало понятно, что это за звуки – многоголосый крик боли.
– Что... что за дьявол...
К нему бежали люди. Вернее, не люди, а почти полностью обгоревшие скелеты людей. Кости их были кое-где прикрыты лоскутьями сожженной кожи. Они бежали быстро, но странно, судорожными рывками. Они бежали к машине и кричали от боли.
* * *
Стефан, Карина и Эмиль вернулись в лагерь. Остальные уже собрались около кемпера Изабеллы. Убедившись, что хуже ей не стало, что непосредственной угрозы жизни нет, Изабеллу отнесли в вагончик и положили на кровать.
– Неплохо бы и Петеру вернуться, – сказал Леннарт. – Лучше бы.
Все поняли, что Леннарт имел в виду, – он боялся оставлять Изабеллу наедине с Молли. До того она, не отрывая глаз, смотрела на лежащие на траве четыре фигуры, а когда те поднялись, вдруг вспомнила о матери и заявила, что хочет посидеть с ней и подержать за руку. Отказать невозможно, но на душе кошки скребут. Что-то тут неправильно.
И еще эти четверо. Коммивояжеры. Их старомодные костюмы должны были бы чуть не насквозь пропитаться кровью, а они выглядели так, будто их только сейчас принесли из чистки. Даже на брюках появились стрелки. Раньше они выглядели совершенно одинаково – диффузные, безликие фигуры, а теперь приобрели индивидуальность: у одного уши торчат, у другого вырос длинный прямой нос.
Кровь на траве исчезла. Сделать выводы – большого ума не надо. Леннарт еще раз посмотрел на коммивояжеров – те стояли в непринужденных позах, словно чего-то ждали.
Он потер глаза.
Выводы-то сделать можно, но чего они стоят, эти выводы, если непонятно, что они означают? Это как когда Гунилла училась в гимназии и просила его помочь с математикой. Ей не давались уравнения с тремя неизвестными. X, Y, Z. Сам-то Леннарт окончил только среднюю школу, девять классов, и по математике был далеко не из первых. Он попытался объяснить это Гунилле, но, когда она начала настаивать: «Да, но если два икса и один игрек равны зет, то...», он полностью потерял нить. Какая разница, что будет, если такая-то и такая-то буква станет другой буквой, если ты не знаешь, что эти буквы означают? Один Гупп и два Хуппа равны восьми Плуппам. И что?
Именно такое чувство у него было и сейчас. Есть набор переменных. Если сложить их по-другому, будет другой набор. Это сделать, конечно, можно, но что за радость, если ты не понимаешь систему?
Все, что они посадили, растет противоестественно быстро, хотя солнца нет. Икс. И при этом, насколько хватает глаз, ничего, кроме травы, не растет. Почему? Игрек. Странные создания, не агрессивные, но... совершенно очевидно, что они питаются кровью. Зет. И так далее. Весь алфавит.
Удивительно, но настроение у Леннарта лучше, чем несколько часов назад, когда они с Улофом сидели и смотрели на бесконечное пустое поле. Пустота – это только одно неизвестное. Всего одно. Икс, Игрек или как там его не назови. А теперь есть кое-что, что надо во что бы то ни стало истолковать.
Рассказ Карины ничего не пояснил, а запутал еще больше. Они якобы находятся на перекрестке. В точке, где встречаются две тропы. А кресты, намалеванные кровью на их вагончиках? Как прикажете объяснить?
Все, что происходит, – полное безумие. Ни с чем подобным он в жизни не сталкивался, за исключением разве что того случая, когда вошел в комнату матери и обнаружил чудовищное искажение перспективы. Страшноватая история. Можно понять Дональда. Вообще-то самое разумное объяснение. Все, что они переживают, – сон. Хорошо бы, только поверить невозможно.
– Ты как? – спросил Улоф. – Видок у тебя – на море и обратно.
– Два раза. Два раза на море и два раза обратно. А ты? У тебя голова не идет кругом от всей этой истории?
Улоф огляделся и почесал в голове.
– Ну да... ясное дело. Но все образуется, я думаю. Так или иначе. Мы же попадали уже в скверные истории, или как? – Улоф коротко хохотнул и тряхнул головой, – Помнишь то лето, когда вырубился ток в грозу? Коровы запаниковали, выбежали за ограду, и мы потом их собирали в темноте. Помнишь? А лило как из ведра... Собрали. Всех до одной.
Леннарт подозрительно посмотрел на Улофа – уж не разыгрывает ли тот его? Нет, смотрит ясно и весело. Значит, и вправду считает сравнение уместным.
Конечно же, он помнил эту ночь. До рассвета они бегали под проливным дождем и искали своих коров. Волокли в коровник, запирали и бежали за следующей. Уже через пару часов нормальная жизнь превратилась черт знает во что. Они промокли до нитки, выглядели, как грешники в аду, еле передвигали ноги, но из последних сил продолжали поиски.
Да, это была тяжелая ночь. Ни тот ни другой не чурались тяжелой работы, но эта работа не укладывалась в привычные рамки, в привычный, редко нарушаемый ритм. Но все равно – как бы тяжело ни было, они знали, что делать. У них была цель. На первый взгляд недостижимая, но, по крайней мере, легко определяемая: найти всех коров и привести в коровник. А здесь? Какая у них цель? Что они должны делать?
Как бы ему ни хотелось разделить оптимизм Улофа, ничего не получалось. Место, где они оказались, было настолько противоестественным, настолько противоречило всем законам и правилам, что Леннарт не мог избавиться от зудящего чувства тоски. Как смотреть на муху, неизвестно как угодившую в оконную раму между двух наглухо закрытых стекол. Ничего нельзя сделать, только ждать, пока она перестанет жужжать. Или разбить стекло. Но никто же не станет разбивать окно из-за мухи.
Леннарт обычно не склонен к рефлексии, но сейчас он настолько погрузился в размышления, что даже не заметил, как Майвор протянула руку и что-то показывает остальным. Что-то при этом сказала, но он не расслышал.
Леннарт подошел поближе. У Майвор на ладони лежали несколько золотых вещиц. Кольца, блестящие шурупчики и какие-то бесформенные комочки.