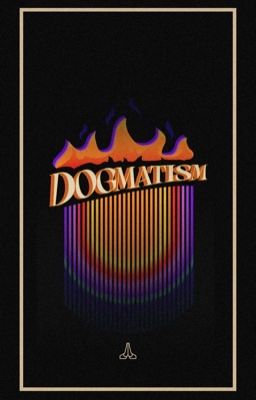7: Помощь Ближнему
Прит. 14:21 «Кто презирает ближнего своего, тот грешит;
а кто милосерд к бедным, тот блажен»
Мелкие крапинки дождя стучатся в окно, и он поворачивает свою ноющую шею к нему; видно только серое, затянутое тучами небо, голые ветки и редкие жеваные погодой листья облетевшего дуба, туман, низко стелющийся по выцветшей земле. Холодно и влажно. Парень ежится, сжимая ручку в пальцах, переводит взгляд обратно на тетрадь — исписанная до самой последней страницы самым аккуратным почерком, на который только был способен Хосок, раскрытая, она безмолвно глядит на Чона, насмехаясь над ним.
Парень случайно сделал помарку на самой последней странице — ерунда и пустяки для одних, для него... непоправимая ошибка. Помарка кровавой стигматой вырисовывается посреди аккуратных записей, прожигая дыру колющей неидеальности, отрезает доступ к упущенному совершенству - пусть хоть и такому детскому совершенству. Выдыхает воздух: возможно, в этот раз обойдется.
Глаза невозможно слипаются от усталости и недосыпа: отец опять поднял его в выходной ни свет ни заря, затем была воскресная месса и бесконечная домашняя работа, которую придумал ему отец — у него свои стандарты обучения... Зевая, Чон поднимается из-за стола, потягивает спину, подходит к окну; там, на ветке совсем рядом с его окном висит самодельная кормушка, покачивающаяся на ветру — они с Чонгу когда-то давно вместе ее сколотили. Хосок подавал маленькие гвоздики и внимательно наблюдал за тем, как папа вколачивает их в маленькие бруски, внимательно слушал его слова - тогда даже показалось, что отец такой хороший — наверное, даже самый лучший, ведь он сразу согласился с его идеей подкармливать зверушек... хоть какое-то приятное совместное воспоминание, что странно: иногда Хосоку кажется, что таких совсем нет ...или он сам не хочет помнить этого.
Холодный воздух врывается в комнату вместе с раскрытыми скрипучими створками окна, когда парень, беря с прикроватной тумбы пакетик с высушенным хлебом, тянется к кормушке; на ее старенькой, едва протекающий, уже хиленькой и обшарпанной годами крыше виднеются набухшие капли дождя, готовые вот-вот сорваться вниз — Чон им помогает, потрясывая конструкцию.
Он быстро насыпает горку сухариков и замирает у окна, чуть высовывая нос из комнаты; синички облюбовали это место, но часто можно увидеть и воробьев, и даже белок: неподалеку тут поселилось целое семейство с бельчатами. Чону нравится наблюдать за животными — это успокаивает: на это время слишком легко не думать о чем-то еще, кроме блестящей шерсти белочки или о том, как забавно птички клюют хлеб, мельтеша крылышками, чирикая, соперничая меж собой.
Птицы появляются почти сразу, как будто по расписанию — их немного, но кормушка небольшая, поэтому все они едва помещаются под крышей; Они быстро склевывают крошки: Чону почему-то смешно. Парень усаживается на узкий подоконник, втягивает влажный воздух, едва дрожит телом от холода — чувствуется, что еще немного, и опять пойдет мелкий противный дождь, где-то далеко, уже за домом, гремит недавно прошедшая гроза, ступающая уже прочь на Юг. Солнце на ясном голубом небе теперь кажется будто бы выдумкой предков, чем-то слишком нереальным, далеким... Что же должно произойти, чтобы оно снова показалось на небосклоне? Второе пришествие Христа? Явление Ангела-Хранителя? Божий знак? Что?
Холодная протяжная бессолнечная зима как основополагающая константа, базис существования всего сущего: от этого плохо. Он любит солнце.
Парень набирает еще гренок из шуршащего пакета и протягивает руку к кормушке, замедляясь — иногда этот фокус удается, иногда нет... но сегодня ему везет, и синичка садится на его руку почти сразу: он держит ее легко, не пытаясь приблизить или сжать ладонь, только и наблюдает за птицей, которую он успел запомнить — у нее нет одного пальца на лапке, но все это как будто компенсируется тем, что она крупнее прочих. Чон улыбается ей.
До тех пор, пока не слышит, как дверь за его спиной закрывается.
Ему не нужно поворачивать голову, чтобы понять, что это он.
Улыбка исчезает с лица быстро, и он суматошно, но аккуратно дергает рукой, чтобы птичка улетела, сбивчиво он высыпает остатки хлеба, отряхает руки друг о дружку... волнение заполоняет его моментально, сразу же. Сглатывает. Ему не нужно делать что-то неправильное, чтобы чувствовать вину перед отцом; один факт собственного существования, факт того, что ему необходимо поглощать воздух, факт того, что ему необходима пища, что он занимает место в доме — всего это достаточно, чтобы хотеть извиняться перед Чонгу.
«Прости, отец, я не должен был, я провинился, прости, отец...»
Медленно оборачивается, отдаляясь, мягко закрывая створки окна одной рукой... Могучая фигура отца нависает над тетрадью — он смотрит прямо на помарку Чона, он точно это знает. Но... но вроде с утра у него было неплохое настроение. Обойдется? Нитью надежды светлое чувство наивности пролетает внизу живота. Нет, сегодня точно все будет хорошо - главное, верить.
Чонгу долго молчит, затем начинает листать тетрадь, пока Хосок вжимается спиной в стену, сковывая пальцы за спиной: он смотрит на отца неотрывно, покусывает нижнюю губу. От волнения почти сразу начинает тошнить... С прошлого избиения прошло немногим более недели, с тех пор они не разговаривали нормально... и даже это заставляет Хосока переживать.
Возможно, он действительно виноват. Возможно, он ужасный сын, который не слушает своего отца, возможно, он и правда плохо себя ведет: портит вещи, не ценит то, что дают, перечит, опаздывает, впутывается в драки, обманывает... выставляет его в позорном свете. Действительно, скорее всего, он и правда виноват и... заслужил... заслужил тот удар? Действительно провинился и справедливо лишился велосипеда?
Хочется быть хорошим сыном. Хочется, чтобы отец смотрел на него с улыбкой и гордостью, чтобы он понимал, что Чон действительно старается и прикладывает усилия — ведь когда он был маленьким, папа почему-то улыбался. Хочется доказать, что он прилежен, чист, что он.... Молодец.
— Помарка. — Сухо бросает мужчина, не смотря на сына.
Сегодня он выглядит свежо и бодро — конечно, сегодня же воскресенье: ни что не заставит его приложиться к бутылке в такой день... а вот завтра...? Хосок чувствует, как иголка страха тыкает его под ребро, и он прикусывает губу: хочет что-то ответить, но в горле пересыхает.
— Опять не стараешься, Хосок, — продолжает спокойным голосом, — лишь бы побыстрее сделать и отвязаться, чтобы я больше к тебе не приставал, да? — огибает взглядом, распрямляя спину.
— Нет, отец, — быстро начинает он, — просто... я устал к концу, рука дернулась... Но ведь ничего страшного? Последняя страница ведь... больше нет ни единой ошибки... Я аккуратно зачеркнул и написал верное решение.
— Это уж я буду решать, что страшно, а что нет, тебе так не кажется? Усталость — это не оправдание, это никогда не оправдание. Праведные люди стремятся к усталости, ведь усталость — это итог тяжелой работы. Это всего лишь домашние задания, и ты не должен был устать так сильно, — он поворачивает корпус, — мне не нравится твое поведение в последнее время, Хосок, — разворачивается, и голос его становится еще суше, — ведешь себя безобразно.
Почти что вырывается стон, потому что чувства пульсирующим градом ниспадают на парня, и он не понимает.... Он действительно ужасно себя ведет? Безобразно? Он правда так плох? Или... или... словам отца нельзя верить? Чон Хосок в действительности не понимает, кто он такой: безобразный сын или сын безобразного отца? Как понять... ведь... Вдруг Чонгу прав? В Библии сказано слушать отца...
— Прости, отец, — быстро отвечает он, но не знает, хочется ли ему быть прощенным на самом деле: решает, что подумает об этом позже, главное, чтобы Чонгу просто вышел из комнаты и оставил его в покое. — Я буду исправляться.
— Хотел бы исправиться, я бы сейчас бы не видел эту помарку в тетради, — Чонгу непреклонен, — думаешь, я забыл, что ты завалил контрольную? Тебе должно быть стыдно — программа в этой школе отстает от программы школы Пресвятой Девы Марии, а ты получаешь минус пятнадцать баллов. Неужели ты еще глупее, чем я думал?
Молодой человек больно и сильно кусает свою губу изнутри, замечая, что теперь вдруг внутри него появляется злость: колючая, дергающая его за горло, стягивающая все чувства куда-то внутрь груди, начиная кипятить их там. Хосок не рад этому чувству, он дурной, когда злой — не может контролировать себя, адекватно думать и принимать верные решения.
И единственное верное решение рядом с отцом — молчать, слушать и соглашаться.
Неужели ты еще глупее, чем я думал?
Еще глупее.
С языка невыносимо сильно хочет сорваться фраза о том, что учитель специально его завалил и в действительности он в тот день написал контрольную лучше всех остальных. Но он этого не говорит, потому что Чонгу плевать на прочих, ему важно, чтобы Хосок был лучше остальных.
«Да мне насрать абсолютно на других» — вот, что бы он сказал.
Ему будет плевать и на учителя — он не поверит Чону, скажет, что тот врет, а потом еще и упрекнет в этом. Он знает это слишком хорошо...
Чувства нагреваются.
— Ты перепишешь всю тетрадь, а потом выполнишь еще несколько упражнений из учебника, — продолжает Чонгу, скрещивая руки, — самостоятельно изучишь следующую тему, чтобы опередить программу. Я не позволю тебе так легкомысленно относиться к той работе, что я говорю тебе делать. В тебе нет ни грамма дисциплины.
— Но... я и так весь день этим занимался, — голос тих, голос дрожит, — мы ведь договаривались с утра, что после домашней работы, я смогу выйти погулять на часик? — глаза округляются, когда он понимает, что может лишиться спасительной прогулки: находиться в этой комнате дольше он не может.
— Ты оглох? Ты опять перечишь мне? Ты же мне только что сказал, что будешь исправляться? — Чонгу хмурится, — опять перечишь мне, опять! Я твой отец, ты обязан слушать меня и беспрекословно выполнять все мои поручения! Или я не глава семьи? Или я пустое место для тебя?
— Но я....я утомился, могу я хоть чуть-чуть отдохнуть? - он сцепляет руки перед собой, будто молясь, - Пожалуйста, немного отдыха, и я сделаю все, что... скажешь. Если я немного отвлекусь, то....
— Ты мне условия хочешь ставить, щенок? — грохает мужчина и хватает тетрадь со стола.
Одним резким движением он со свистом рвет ее на две части и бросает обратно на стол; Чон сжимает кулаки, почти задыхается, слыша продолжительное эхо рвущейся бумаги в ушах, будто бы этот звук заел в приемнике и теперь он продолжается задублированным звучанием: дурак, надо было молчать, надо было соглашаться, повиниться, надо было все признать, ты же знаешь, что ему нельзя говорить что-то лишнее, ты же знаешь, какой он человек, ты должен был знать, что он так поступит... тупица, ты сам виноват в этом, ты никчемный сын, ты глупый, ты дурак, почему ты никогда не делаешь так, как он говорит?
Почему ты перечишь? Ты знал, что так будет, ты знал.
— Да что ты... — вырывается это неосознанно, хлестко, неожиданно.
— Что я?! — гаркает.
Чон дрожит всем телом: теперь ему точно придется переписывать это все; завтра будут проверять домашние задания, которые были в этой тетради.... Ну почему, Господи, почему? За что?!
Нижняя губа от бессилия начинает дрожать:
— Да почему ты это делаешь? — ему так невыносимо обидно и так невыносимо гадко, что голос дрожит, срывается, и от этого еще более противно - слышать свою слабость и не быть в состоянии взять себя в руки добивает камнем отчаяния по затылку и падает в горло, утягивая за собой всю гордость.
— Почему?! Потому что ты меня вынуждаешь, сын! Ты сам в этом виноват! — твердо бьет словом, — я не буду этого делать, когда ты станешь прилежным сыном и отличным учеником. Пока я этого не вижу — это будет продолжаться! В твоих силах это исправить. Я ведь не злодей, я хочу лучшего для тебя!
— Лучшего для меня? — шмыгает носом, ощущая явное головокружение: камень обиды проглатывается и, падая, задевает ненавидимую им злость, что хватает его за язык, — тогда, может, перестанешь рвать мои тетради и избивать меня? — вырывается у него, и он больше не следит за тем, что говорит - взгляд его меняется, как и выражение лица: парню хочется шипеть.
Опять происходит то, чего он всегда боится — ему страшно настолько, что совсем неважно, что говорить.
— Ты хоть знаешь, как мне было больно петь после того, как ты меня чуть не прибил? — он вжимается в стену, — как мне было... стыдно, когда... когда мой синяк увидели в школе? — он неосознанно дотрагивается до своего уже почти зажившего бока, когда в глаза бросается картинка-воспоминание с Мин Юнги: его быстрый холодный взгляд, скользящий по его телу, на мгновение останавливающийся на ушибе... и то, как он потом отвернулся к стене, будто в отвращении.
— Стыдно из-за тебя! — громко бросает он, тыча пальцем в отца, — хочешь лучш...
Чонгу достигает его в два шага, прижимает к стене, резко хватая его за воротник рубашки левой рукой, правой зажимая ему рот:
— Что ты говоришь, сопляк? — сжимает он губы, смотрит загоревшимися глазами в его, — тебе стыдно? Стыдно перед кем? Перед этими дворнягами-сиротками, которых бросили родители-алкоголики? Может, тебе еще стыдно за то, что у тебя есть родители, крыша над головой, чистая одежда? Стыдно, что у тебя на столе есть еда? — сжимает руку на воротнике, — пока ты живешь в моем доме, ты должен слушать меня... Я даю тебе все! Еду, одежду, твои игрушки! И не требую от тебя благодарности, сопляк!
— Не трогай меня, — Хосок пытается вырваться, ногтями впиваясь в сильную руку отца, — не трогай меня... ! Убери свои мерзкие руки от меня! Только попробуй...
Злость трясет его тело и потом вдруг покидает его беспомощным, бессильным, передавая эстафету огромной тяжелой жабе под названием бессилие и безысходность; голос срывается на визгливый звонкий крик.
— Что ты там пищишь, щенок? Голос прорвался? Гавкать на отца? Молоко еще на губах не обсохло!
Чон начинает отпираться ногами, но огромному Чонгу это все равно что горох о стену:
— Не обзывайся, — шипит, понимая, что еще немного и расплачется, — если я щенок, значит, ты — собака, пес! - языку горячо, - отпусти!
И Чонгу действительно его отпускает.
На самое мгновение.
Затем снова хватает за воротник одной рукой, второй звонко отвешивая Хосоку хлесткую горячую пощечину с такой силой, что Чон валится на пол; но ему не больно — он ее не ощущает, потому что, очевидно, находится сейчас не в себе. Только в ушах приглушенно звенит да голова все так же кружится.
Возможно, он даже ждал этого: ждал, чтобы дать самому себе разрешение на то, что собирается сделать. Ждал, потому что это, скорее всего, является доказательством того, что он не такой уж и плохой — злодей тут Чонгу. Праведный человек не бьет своих детей: он так часто об этом забывает.
Возможно, он хотел, чтобы отец это сделал.
Он смотрит на отца снизу вверх, прямо в его глаза; Хосок надеется, что тот сможет увидеть в его взгляде все то, что он чувствует, всю ту злобу и ненависть, непонимание и отвращение, видит его правоту и осознание своего положения, но забывает, что люди иногда добровольно становятся слепцами, выкалывая себе глаза истины собственной выдумкой, придуманной правдой. Чонгу лишь озлобленно скалится в ответ, угрожающе поднимая плечи и сковывая руки в кулаки - лицо его покраснело, и он в шаге от того, чтобы совершить новое нападение.
Больше Хосок ничего не говорит — быстро вскакивает с пола и убегает не только из комнаты, но и из дома. Так быстро, что отец ничего не понимает.
***
Хорошо, что мать и сестра были в магазине, когда все это произошло. Плохо, что скоро они вернутся и застанут разъяренного Чонгу, который может сделать с ними все, что угодно.
Хосок старается об этом не думать; он плотно сжимает губы, придерживая щеку — она раскраснелась, а боль, когда шок улегся, начала плясать и отпрыгивать на ней горячими искорками, прямо как от раскаленного масла на сковороде, но это — меньшее из зол.
Он не хочет возвращаться домой. Так сильно не хочет... Но что делать? Найти местечко где-нибудь под мостом и сгинуть от холода там ночью? Неплохой вариант. Попытаться найти приют в церкви?.. Уйти в школу...? Чуть хуже.
Ноги шоркают о бульварные плиты, глаза опущены вниз, воздух едва-едва поступает в легкие; парень чувствует на губах вкус металла: Хосок не понимает, кровь во рту от удара, от того, что он сам себе прикусил губу или от того, что он так нервничает, что еще немного и кровь пойдет носом? Неважно... Да пусть он обескровится полностью и умрет — так будет лучше для всех.
Улицы города безмятежно серые, неприветливые и холодные; накрапывает дождь, поэтому снаружи почти никого нет, а те редкие прохожие, быстро проносящиеся мимо, прикрывающиеся шарфами, зонтами, газетами, почти не замечают его, такого же серого, слившегося с местностью. Хосок ощущает себя бестелесным призраком, который отчего-то все еще не может найти упокоения на земле и вот уже целую бесконечность бродит вот так, непринимаемый никем, забывший, зачем он тут... хотя, все дурость, конечно.
Библия отрицает существование призраков — значит, и его нет. Просто тень того, кто когда-то был Чон Хосоком.
В глубине души он знает, что ноги ведут его в парк, но он не признается в этом себе: слишком занят жалостью к себе — беспомощный, бесполезный, ужасный, глупый, не человек, а катастрофа, от которого одни неприятности. Наверняка,
отец отыграется потом на матери. Точно. Опять из-за него проблемы. Лучше бы
молчал. Черная дыра тягучей ненависти выжигает в груди огромную прорезь, которая поглощает весь свет снаружи: там этот свет угасает, растворяется, не доставляя ни луча внутрь, чернота все съедает, не чувствуя насыщения, продолжая пульсирующие молить о большем. Ненасытная тварь.
Эта же ненасытная тварь говорит ему о том, как бы ему хотелось избить Чонгу. Своими собственными кулаками, раздирая костяшки до крови. Да, так думать плохо, ужасно, но он не может вычеркнуть эти картинки из головы, он в ярких окровавленных красках фантазирует о том, как отец стоит на коленях, плачет и жалобно умоляет простить его, катается, как свинья, в грязи, вытирает сопли и кровоподтеки, не может поднять взгляд из-за вздувшихся фингалов и красных глаз. Хосок представляет как громко смеется над ним и с болью втаптывает его ладонь в грязь каблуком на своих ботинках. Он представляет, как забирает мать и сестру, как они оставляют его одного среди свиней гнить в навозе.... Он будет гореть в аду за такие мысли и, возможно... он согласен на это. Возможно, он действительно плохой сын.
В парке практически безмятежно и в летние дни здесь хорошо проводить время, но сейчас, когда вся листва опала, а протоптанные дорожки превратились в тропы из грязи неаккуратных следов, это место вызывает еще большее уныние: взять бы веревку да повеситься на какой-нибудь толстой удобной ветке в губине, чтобы никто не нашел раньше времени.
Продрогший, озябший, он садится на скамью, ловя себя на странной мысли о том, что закурил бы сейчас: сразу вспоминается сигарета, которую дал ему Мин Юнги — ее определенно точно не хватает сейчас меж дрожащих пальцев, да только вот она осталась дома. Если это место еще можно так назвать, конечно...
Он слышит звонкие голоса где-то по близости, но не обращает внимания на них, продолжая смотреть перед собой: голоса слишком веселы и громки, что совершенно не соответствует его внутреннему состоянию, и этот звук как-то естественным образом отторгается, не заползая внутрь него, оставаясь во внешнем мире, от которого он отгораживается — Хосоку думается, что самым верным вариантом будет пойти ночевать в какую-нибудь церковь, он точно знает, что настоятели ему не откажут, а потом... будь что будет. Возможно, потом он действительно уйдет под мост и сгинет там... хотя, на самый крайний случай у него есть одно место на примете...
Голоса вдруг оказываются совсем рядом, и только сейчас Чон поворачивает голову — он почти удивлен.
Они договорились встретиться с Йонг именно здесь, но он был почти уверен, что из-за его опоздания и плохой погоды она уже давно дома, но это была определенно она, да еще и в компании нескольких парней. Они выглядят неестественно яркими, неподходящими этому серому месту — это он, Чон, идеальное его дополнение, а они... не вписываются. Слишком много смеха, улыбок и...чего-то доброго? Чону не по себе — незнакомые ребята выглядят... странно.
— Эй, привет, сосед! — издалека здоровается девушка, приближаясь.
Он слабо машет, отворачивая затем голову в противоположную сторону: ну и зачем он пришел? Для чего? Ему, на самом то деле, вообще не хочется ни с какими людьми разговаривать, знакомиться... а пощечина? Вдруг ее слишком хорошо видно...? Наверняка, ее видно слишком хорошо. Уйти, уйти, пока не поздно — пусть Йонг думает, что хочет, а он не собирается опять стыдиться и позориться, сразу пойдет под мост, чтобы там и умереть...
Он встает со скамьи, намереваясь уйти из парка, но Йонг вдруг переходит на бег, быстро достигая его:
— Я думала ты не придешь! — озорно говорит она, кладя руки на плечи, и Чон едва подается вперед, пытаясь не глядеть на нее — точнее, пытаясь отвернуть от нее левую сторону лица, которая вся горит огнем от пощечины.
— На самом деле, я только на десять минут... я только... — начинает быстро бубнить он, видя приближение незнакомых парней, — ...мимо проходил, решил поздороваться и сказать, чтобы ты не ждала, у меня... появились обстоятельства... семейные, да, надо сегодня дома помочь...
— Ну, у тебя же будет минут десять, да? — она весело улыбается, слегка ударяя кулачком по его руке, — это Хонг и Чанвук, — она быстро кидает в сторону парней, на которых Хосоку почему-то страшно смотреть...
...Потому что отец про таких говорит, что они — покинутые Богом гомики, которых ждет ад: у них длинные волосы, убранные в хвост, рванные джинсовки с металлическими шипами, неприлично узкие джинсы и массивные черные ботинки.
Они определенно старше и выглядят не так уж и дружелюбно, между пальцами
виднеются сигареты, и Чон лишь подозрительно косится на них, неосознанно шагая назад.
— Это — мои хорошие друзья, — быстро тараторит она, — правда, мы только летом познакомились, когда ездили на ту сектантскую сходку наших родителей, — хихикает, но потом вдруг сужает глаза, присматриваясь — Чон знает этот взгляд.
Она заметила. Заметила распухшую красную щеку, которую он пытается позорно спрятать, глядя на нее вполоборота, заметила его побитый вид, бледную кожу и глаза на мокром месте.
— Здарова, — первым начинает Хонг — тот, что повыше; он протягивает руку, Чон отвечает почти безучастно: хочется побыстрее убежать, осознание того, что Йонг Мун все поняла заставляет его стыдиться еще больше — господи, он из семьи, в которой избивают детей... ужасно. Позор.
— Пацаны, короче, круто погуляли, — девушка начинает через пару мгновений, с трудом отрывая взгляд от Хосока, — но я, кстати, вспомнила, что у меня тоже горы домашки, а Хосоку надо забрать у меня учебник, а потом помогать родным дома, я совсем забыла про время, — она игриво ударяет себя по лбу, — моя маменька меня съест, — смеется, обращаясь к парням, — свидимся завтра? Чанвук, не забудь про кассету, про которую ты говорил, окей?
— Забились, — Чанвук отвечает неожиданно низким голосом, стреляя напоследок глазами в сторону Чона, и было в этом взгляде что-то определенно странное, как будто... как будто он попытался сказать Хосоку, что они еще встретятся.
Ну, это вряд ли. Хосок с такими не общается.
Парень провожает их взглядом, неожиданно осознавая, что Йонг не торопится уходить: она настойчиво глядит на парня напротив, выжидая, когда ее друзья уйдут достаточно далеко, чтобы их не слышать — она даже не смотрит на них, беззастенчиво сканируя Чона перед собой. Хосок даже не замечает, что замерз настолько, что начал дрожать, скукожившись: вся одежда неприятно влажная и холодная, и ни одна мысль не греет.
— Это кто-то из школы сделал? — Мун как никогда серьезна.
— Нет, — голос тихий настолько, насколько это возможно; Чон не хочет разговаривать, но и не торопится уходить — некуда.
— Ясно. Понятно, — сухо отрывает девушка, — ладно. Идем, — начинает шагать к выходу из парка, пряча руки в карманы своей фиолетовой курточки на молнии.
— Что? - остается на месте, - куда?
— Как куда? — легко дергает плечом, улыбаясь, — ты сейчас прямо здесь от холода помрешь, а я этого допустить не могу - ты еще не спел моей матушке, — хихикает, — она будет рада тебя видеть, я думаю.
***
Возможно, он пошел за Йонг Мун, потому что решил пока не умирать; а, возможно, ему просто стало любопытно, что из всего этого получится - собственную смерть всегда можно отложить.
Раньше он не бывал в таких домах, но несколько раз видел по телевизору; ему всегда казалось, что в таких дворцах живут только президенты, но, насколько он знает, у президента сейчас другая фамилия, так что, получается, и простые смертные могут просыпаться в теплых больших светлых комнатах со свежим постельным бельем.
Он пытается не открывать рта, но это выходит само собой: большой двухэтажный дом, на полу плитка, как будто из музея, стены все в картинах и семейных фотографиях, с которых смотрят счастливые улыбающиеся лица... Они какие-то идеальные: счастливые, радостные... наверняка, в этой семья друг друга любят и прислушиваются. Проходит мимо, шмыгает носом, переключая внимание: надо же, даже цветы - не те цветы в горшках, что и у его мамы есть, а такие, что ставятся в вазу просто для красоты: надо же, какие прихоти бывают у богатых. Дом такой большой, что, наверное, если крикнуть, можно будет услышать эхо... Да тут потеряться можно!
Они быстро пересекают холл, и Чон едва глядит вбок: там, через белые приоткрытые двери видна большая полукруглая гостиная с камином, каким-то красивым ковром, длинным пустующим столом, отодвинутым к стене, с большим белым диваном и с черным, как будто королевским роялем... красиво.
— Там у нас обычно званые ужины проходят, — мимоходом объясняет девушка, жуя яблоко, которое взяла на блюдечке у входа.
У них у входа есть блюдечко для яблок. Богатые.
— Скучно так, что лучше б я в такие дни не просыпалась, — оборачивается, — какие-то непонятные толстые и лысые дядьки, разговаривают о деньгах и политике, а мама так противно смеется и поддакивает, как будто она все понимает, — она зевает, — видишь, я только начала говорить об этом, уже спать захотелось. Не знаю, почему мне так обязательно там быть, а вот Ёнджи почему-то нравится. Постоянно ошивается с молоденькими сынками этих дядек, - хихикает, - дома, кстати, как оказалось, никого нет, так что так даже лучше... Нана принесет нам чай и поесть. Нана — это наша помощница.
Хосок ничего не говорит, потому что боится выдать в себе невежду, но наличие горничной это уже какой-то перебор, что-то за гранью... Хотя, наверное, у них достаточно денег даже для этого, если они так безропотно помогают нищим.
В ее комнате он не знает куда себя деть, да и все это как то до жути странно: они ведь, по сути, не знают друг друга, видятся третий раз в жизни, а она уже притащила его в свои хоромы, собирается напоить чаем еще и накормить...
Но неловко было еще и от другого — он вообще в принципе в первый раз в гостях у девчонки; почему-то он всегда дружил только с парнями, поэтому Хосок не особо понимает, как себя нужно вести и что делать...
— Х-х-х, — Йонг падает на кровать, что стоит у большого зашторенного окна, — кстати, если вдруг так выйдет, то, пожалуйста, ни за что и никогда не говори моей маменьке или моей сестре, что я вожусь с теми двумя, родные сгрызут мои кости и даже запивать не станут, — садится на кровать, подгибая ноги, — они супер классные, но маменька таких... не любит. Чего ты там стоишь? — она подзывает Хосока, хлопая по кровати рядом, — садись, я не кусаюсь.
— Каких.... Таких? — парень скованно приближается — пальцы переплетаются друг с другом, спина едва сгорблена.
— Мама называет это плохой компанией, но что в них плохого, если они принимают меня такой, какая я есть? — она подергивает плечом, — они никогда мне не скажут, что я веду себя как дурнушка, дадут совет или еще чего, поддержат, чтобы в мою голову ни стукнуло, но они... ну... — пытается объяснить она, подбирая подходящее слово, — ну... не входят в круг общения нашей семьи. Неважно, не забивай голову, они тебе понравятся.
— Они показались мне... грозными, — он пытается усмехнуться, предпринимает попытку расслабиться, но выходит все равно не очень - скованно он опускается на кровать рядом с девушкой, садится на самый край, как будто боясь испачкать покрывало.
— Это только кажется... Но ты мне расскажешь, что с тобой приключилось? Что у тебя с...
— Пустяки, — он резко отворачивает голову, быстро качает ей, машет рукой, — я... это неважно.
— Слушай, я знаю, что ты мне еще не доверяешь, мы же видимся в третий раз, но помнишь, что я сказала тебе в прошлый раз? Дай мне шанс, и ты поймешь, что я классная, — она хихикает, опять утыкая его в плечо, — ты можешь не говорить мне, что случилось, я пойму, но просто все это очень напоминает мне мою одноклассницу, которую избивала ее сумасшедшая бабка...
Чон неосознанно реагирует резче нужного, чем неминуемо выдает себя, но Йонг не обращает внимания — или просто... просто делает вид, что не обращает внимания.
— Она почти ни с кем в классе не общалась, пока не попала в больницу, там была такая жуть вообще... разрыв кишечника, кажется, - она смотрит перед собой, - один раз она даже из дома убежала, и, может, я и ошибаюсь, но... Хосок... поправь меня, если я ошибаюсь, и ничего не говори, если я права. Мама учит помогать ближнему своему и... — она делает небольшую паузу, — просто у вас... взгляд одинаковый, вот и я...
— Йонг, я сегодня не вернусь домой, — быстро выкладывает он, потом почти сразу жалеет, закрывая свой рот рукой.
Больше он ничего не может сказать — не просто не хочет, в буквальном смысле он не может физически проговорить слова о том, что собственный отец его избивает, из-за чего он сбежал сегодня: вот так просто, без вещей, без еды, без одежды, без монеты в кармане...
— Не знаю, зачем я это сказал тебе, — ему опять стыдно, и он прячет взгляд, — прости, я не...
— За что ты извиняешься? — девушка искренне не понимает, щуря глаза.
В тишине он качает головой:
— Извиняюсь за то, что, сказав это, обрек тебя на участие в этом всем... — он и сам не до конца понимает смысл сказанного, но чувствует, что будто обязывает Йонг что-то предпринять и как-то поступить, нарушает ее спокойствие, — меньше знаешь, крепче спишь.
— Я всегда сплю, как убитая, - смеется, - тебе есть где ночевать?
Выдыхает:
— Выбираю между тем, чтобы пойти в церковь или залечь где-нибудь под мостом, — горько смеется, продолжая.
— Я тебе упрощу выбор, — она склоняет голову, — переночуешь эту ночь у меня, только тайно. Если матушка узнает, что я начала водить парней, ее хватит сердечный удар раньше времени.
***
Ночью он находится как будто в бреду, в пограничном состоянии между сном и реальностью: он видит яркие отчетливые картинки, он слышит знакомый громкий голос, выбивающий в голове одни и те же слова, смысл которых он не может уловить — форма звучания постоянно меняется, переливается, и сколько бы он за них не ухватывался, они все равно ускользают из рук, как в потоке холодного горного ручья.
Ворочается с бока на бок, слышит тихое сопение под ухом, и когда на улице светает, а глаза от этого начинают болеть, он понимает, что бессмысленно предпринимать новые попытки уснуть, хотя желает этого больше всего на свете: там, во сне, так намного спокойнее.... Там нет этих стен, там нет ничего, что давит изо дня в день, накатывает, заставляет чувствовать себя никчемным и жалким.
Территория школы не просто маленькая — она крохотная; помимо клуатра есть задний двор с заброшенным деревянным сараем с протекающей крышей и излюбленным углом, куда они постоянно бегают покурить. Двор можно обойти за три минуты, поэтому Мину остается лишь наматывать круги, топча под ногами покрывшуюся росой траву, выдыхая морозный воздух. Мысли бесконечным кругом крутятся внутри черепной коробки, но с собой они не несут ничего абсолютно — они пустые, вакуумные, бессмысленные, обрывочные, будто бы сразу же обо всем на свете и ни о чем одновременно, они будто все еще застрявшие в туманном сонном состоянии, изредка напоминающие о могучем грозном голосе и о непонятных словах.
Он оборачивается вокруг себя. Те же стены, та же возвышающаяся часовня с крестом, тот же покосившийся сарай, то же самое небо над головой. Те же заборы. Все те же сдавливающие, сжимающие каменные заборы, что стоят тут уже не первый век- сколько душ они уже погубили внутри себя? Сколько глаз смотрели на них вот точно так же?
Юнги забирается на камень в дальнем углу двора, встает на цыпочки — этого достаточно, чтобы выглянуть за него и посмотреть на мир за пределами школы.
Там поле. Бескрайнее, простирающееся от стены до самого горизонта, лишь там, где то на дальнем краю виднеются заросли хвойного леса и небольшие пригорки; в детстве ходили байки, что в том лесу обитают души умерших, которые при жизни вели разгульный образ жизни, плохо учились и не ходили в церковь по воскресеньям — Юнги хотелось бы присоединиться к ним: наверняка, компания там собралась, что надо.
Утреннее солнце вяло освещает день и, что удивительно — не идет дождь; на небе ни облачка. Оно бледно-алое, почти серое, еще не успевшее упасть в синеву, но чистое. Лучи освещают луг, стены школы, гладко ложатся на лицо пианиста, и он прикрывает глаза: он обожает солнце, тепло и свет, и нет ничего лучше, чем просто вот так вот пригреться на солнечных лучах и не шевелиться. Тепло.
Но длится это недолго: освинцованным пробивным поездом в голову врезается мысль, напоминающая, почему он не мог заснуть всю ночь.
Вчера пастор Дондук опять к нему подошел.
И попросил зайти сегодня вечером.
Сглатывая, он спрыгивает с камня и отходит от забора, пряча руки в карманы, пиная землю под ногами. Неужели нет другого выхода? Неужели Господь настолько к нему холоден, что позволяет происходить подобному? Но ведь если он хочет отсюда выбраться, тогда... Господи, за что...
Торг с самим собой не продолжается долго: он покидает двор, пересекает холодный каменный открытый коридор с арками и сводами над головой, едва задерживается во внутреннем саду и почти решается вернуться к излюбленному месту у лестницы; есть еще минут сорок до общего пробуждения, так что, возможно, ему удастся вздремнуть в том уголке... Он не хочет возвращаться в свою комнату: там еще хуже, там в особенности хуже... Особенно у изголовья кровати.
Но входная деревянная дверь вдруг скрипит, и он удивленно смотрит в ту сторону: в этот час обычно не спит только он... Сначала просовывается нос Чон Хосока, а затем и он сам: сегодня он какой-то... не такой.
Бледный, слегка помятый, припухший... без сумки на плече. Хосок явно не ожидал того, что кто-то его сейчас увидит, как не ожидал и Юнги, что его утреннее свидание с самим собой будет прервано: они смотрят друг на друга безмолвно, не решаются здороваться, как будто бы пытаясь своим молчанием друг другу ответить на вопросы о том, что же тут происходит.
— Ты... ты чего тут? — первым решает заговорить Юнги, хмурясь, — так рано?
— Я... а ты чего не спишь? - Чон едва цепенеет.
— ...Не спалось.
— Мне тоже, — выдыхает, полностью заходя на территорию школы, прикрывая дверь за собой, — Юнги, я...
Хосок неловко чешет затылок; ему еще более стыдно и еще более неловко: молодому человеку кажется, что он — прокаженный. Он ощущает, что буквально все в его внешнем виде говорит об этом — вчерашняя мятая одежда после дождя, грязные после долгой дороги ботинки и кое где запачкавшиеся брюки. Может, от него еще и дурно пахнет? Ужасно, стыдно, позорно... И, конечно, он явился в школу без принадлежностей — все, на что его хватило, так это неловко попросить у Йонг тетрадь и ручку для занятий, и то, только потому что страх быть осмеянным на весь класс был больше смущения перед девушкой, которая и так неожиданно много для него сделала.
— Ты... дашь... списать мне домашку? — он заливается краской, опуская глаза в землю, — на математике... ведь ее сегодня будут проверять, а я...
— Ты просишь списать у меня, у самого плохого ученика по математике? — ухмыляется, — ты обо мне высокого мнения.
— Не сделал? - поднимает брови.
— Не-а... не понимаю я все эти цифры, — чешет затылок, — может, учителя и правы, что перестали пытаться сделать из меня что-то годное, так что...
— Тогда дай мне учебник, и мы быстро все решим, — неукротимо начинает Чон, подходя ближе, — мне никак нельзя получить плохую оценку, никак.
Он думает об этом, но пытается не признавать: он не хочет получать оценку «неудовлетворительно» только из-за отца; что-то подсказывает ему, что домой он вернется, а там все останется неизменным... Нет, никак нельзя.
Еще неизвестно, что с ним будет... потом.
Юнги приносит учебник даже слишком быстро, в руке еще погрызенная ручка и потрепанная временем и муками учебы тетрадь; Чон Хосок вырывает книгу из рук быстрее, чем Мин усаживается в излюбленном уголке у лестницы; Хорист быстро находит нужную страницу и, садясь на корточки у подоконника, тут же начинает писать.
Мин не смотрит на решения — смотрит на Хосока... что же с ним приключилось?
Но почему-то не спрашивает, лениво открывая тетрадь кое где исчерканную, где-то заляпанную — даже как-то неловко смотреть на свой неряшливый почерк и сравнивать его с идеальными цифрами Чона, которые он старательно выводит, напрягаясь. И все-таки... Что же произошло с Хосоком, что приключилось? Задавать вопросы как-то не по себе, и он даже не понимает, почему это все так его стесняет. Захочет - сам расскажет, ведь так? И почему ему должно быть не все равно? Любопытной Варваре...
— Тема дробей легкая, — начинает говорить Чон, переписывая пример, совсем забывая о насущном, — так, a у нас больше нуля, b с и d тоже, а a деленное на b меньше либо равно c деленному на d... Я помню, как решил это вчера, - он тут же кусает себя за язык, понимая, что почти оголяет себя полностью - но Мин, кажется, пропускает это мимо ушей.
— На каком языке ты вообще говоришь? — он усмехается, переписывая пример за Чоном, — это же математика... почему тут нет цифр?
— Это проще простого, Юнги, здесь только нужно формулу подставить, — Чон быстро вырисовывает ее на листке, — самые простые задачки на логику. Я объясню тебе позже, а то у нас сейчас не так много времени перед занятиями...
— Ты же понимаешь, что если учитель Вон Бин вызовет меня к доске и попросит решить домашку, то я ничего не смогу объяснить... Я даже могу не пытаться сделать это, — парень кладет ручку.
— А, может, Вон Бин посмотрит на решения и решит не вызывать к доске, поставит оценку выше, чем неуд? — ухмыляется, поднимая голову, — почему бы... не предпринять попытку избежать худшего исхода? От попытки... точно хуже не станет. Что он, ни разу за списыванием тебя не заставал?..
— Ладно, ты прав, — вновь начинает писать, быстро соглашаясь, — но вертел я на одном месте всю эту муть... ничего не понятно.
— Говорю же, — Чон вновь открывается от решений и переводит взгляд на Юнги, — если тебе нормально все объяснить, ты поймешь это. Это не сложно.
— Не сложно? Не для меня, — качает головой, — но... объяснишь мне...? — отчего-то он не может поднять на глаза, глядящие на него напротив, внутри все как будто бы стягивается: так странно, — как-нибудь... — шмыгает носом.
— Как-нибудь объясню, конечно, — Хосок возвращается к записям, — сказал же. Если твоя голова может понимать сложные средневековые псалмы, а пальцы так легко их играют, помня наизусть... да еще и импровизируешь ты на раз-два — математика должна укладываться у тебя в голове.
— Музыка и математика — это не одно и то же.
— Не одно и то же, но разве в музыке нет четко выверенной математической последовательности? Что такое музыкальное произведение, если не числовая
закономерность? Они очень похожи, - быстро говорит он, переходя к следующему упражнению.
— Ну, значит, со мной что-то не так, если я не понимаю...
— Нет, это значит, что с Вон Бином что-то не так, — тихо буркает он, чуть отводя носом в противоположную сторону, не замечая, что начинает слегка злиться, — если он ничего не объясняет, а только баллы снимает...
Шлепок от пощечины опять эхом хлопает его по уху, и он как-то сорвано прикладывает ладонь к щеке, на языке появляется фантомный вкус металла; он совсем забылся и даже не подумал о том, что удар еще может быть виден... дурак, еще и сел этой щекой в сторону Юнги... Чон беспомощно выдыхает, чувствуя, как от стыда загораются кончики ушей: хоть бы Юнги не заметил, хоть бы Юнги не заметил...
И Мин не заметил. Сначала не заметил, но когда Чон вдруг посерел и, отведя лицо в бок, прикрыл щеку рукой, какое-то странное подозрение кольнуло его под бок: нет, не может же это быть правдой, бред... Но когда он вспоминает про разбитую губу, огромный синяк на груди, вспоминает про не состыковку с велосипедом, а теперь еще и щека, на которой тонкими полосками синели нервные ниточки.... И его странное утреннее появление - без вещей, без домашки...
Чон Хосока кто-то избивает? Кто?
Юнги хмурится, ничего не говорит, начиная списывать теперь безмолвно: он совсем не может сконцентрироваться на дробях, буквах, цифрах, знаках равно или минус... такой все это бред. Зачем он это делает, для чего? Вдруг хочется смять тетрадь, разорвать ее, перепрыгнуть через забор и убежать. Душно. И, нет, на улице холодно и в помещении лишь едва теплее — душно от мыслей. Все так бессмысленно, так...
— Юнги, ты не тот знак поставил, — хихикает Чон, указывая на ошибку, — больше либо равно здесь должно быть в другую сторону. Будь внимательнее...
— Я задумался, — почему-то, но он не рвет тетрадь и не убегает — покорно перечеркивает неверную запись, неаккуратно меняя ее на верную, — думаю, я, наконец, понял истинные низменные мотивы твоего поступка на той контрольной, — улыбается, ухмыляясь, — ты просто хотел расположить меня к себе, чтобы я вот так вот в шесть утра выручил тебя учебником. Вот ты какой, оказывается, Чон Хосок — ни одного чистого помысла, ты погряз в корысти!
Возможно, Юнги затевает этот разговор для того, чтобы отвлечься от собственных мажущих мыслей. Возможно, для того, чтобы... просто поговорить с Хосоком.
Сначала Чон ничего не понимает и даже подозрительно хмурится, но потом начинает хихикать, видя, что Юнги всего лишь шутит:
— Ого, какой я, оказывается, дальновидный — уже тогда знал, что однажды я... — прерывается на полуслове, потому что не может сказать того, что на уме...
«...Что однажды я сбегу из дома после того, как отец ударит меня так, что я отлечу на пол, и мне придется позорно ночевать у почти незнакомой девушки, а утром тайком убегать от нее, а потом унижаться, чтобы списать тупую домашку, ведь отец разорвет тетрадь, над которой я корпел весь свой выходной, и я буду все судорожно переписывать только, чтобы еще больше не разозлить отца, который, наверняка, и так меня прибьет, когда доберется до меня».
Он прочищает горло.
— Помощь ближнему — не входит в понятие «корыстности», ясно? — смеется Хосок, лихорадочно прокручивая ту мысль еще раз, — я читал это в Библии.
— Что-то я такого не припомню, - приподнимает подбородок, усмехаясь, - не напомнишь стих и главу?
— Да точно тебе говорю, — дергает плечом, начиная собирать вещи - с заданиями покончено, — когда ты помогаешь немощному, то корысть автоматически отпадает — как пить дать! От немощных нечего брать взамен, это обычное милосердие, чтобы восславить Бога!
— Так я теперь немощный? — Юнги, поднимаясь, начинает следовать за ним, недовольно упирая руки в боки.
— Ну, тогда на контрольной более немощного человека нельзя было найти... — пожимает плечами, упираясь взглядом вперед, — клянусь, даже бедняки на улицах выглядят более гордо.
Надо же, как быстро больные мысли об отце могут отойти на дальний план.
— Да что ты говоришь! — следуя рядом, Мин ухмыляется и легонько хлопает его по плечу, — я делал вид, что мне все равно!
— Вот именно, ты лишь делал вид! — смеется в ответ, — я видел
твои бездонные грустные глаза, Мин Юнги, и понял все! - он округляет свои глаза, двумя своими пальцами указывая на них, а потом на глаза Юнги, - понял, что ты в жопе! И я, как честолюбивый христианин, не мог оставить тебя в беде...
— Ай, ты все выдумываешь, Хосок, ни один Апостол бы так не сказал!
— Советую тебе перечитать Библию, потому что ты явно упустил эту часть...
В этом месте непривычно слышать хихиканье и смех — свое хихиканье и свой смех особенно; наверное, Юнги никогда раньше и не слышал свой голос таким... легкая усмешка, подбрасываемая вверх потоками воздуха, устремляющаяся по коридору, расползающаяся в пространстве вокруг — и этот звук... принадлежит ему. Разве он умеет так звучать?
Рассветное солнце освещает открытый коридор, по которому они быстро шагают, чтобы поскорее оказаться в зале на перекличке, а если выглянуть наружу, бросить взгляд чуть дальше крыши, обрывающейся у клуатра, то можно увидеть голубое небо — впервые за долгое-долгое время... но Юнги и не думает смотреть туда; когда он смеется, то он видит перед собой Хосока — он продолжает размусоливать эту тему, смеясь, вставляя время от времени что-то умное, Юнги лишь односложно отвечает, подыгрывая.
Надо же... иногда его голос действительно может звучать так... Так невыносимо живо и весело, так, будто с него стряхнули пыль, взбудоражили, подкинули. Ноги тоже шагают слишком быстро, пытаясь поспеть за длинными ногами Хосока и хочется смеяться еще больше, да и не только смеяться — в принципе, дышать грудью чуть больше, чем всегда.
Так странно — он же только что был готов разорвать тетрадь и перепрыгнуть сквозь стену... что вдруг заставляет его теперь сжимать ее в руке и идти не за стены, а в их глубь?
— Ты вынуждаешь меня сильно задуматься над тем, хочу ли я тратить на тебя свое время, чтобы помочь в математике, — все так же смеясь, продолжает Чон, глядящий на Юнги.
На пару минут он тоже забывает о шипящей боли на щеке и о том, что может ждать его дома. На эти пару минут он хочет только... чтобы этот момент тянулся как можно дольше.
— А кто говорил только что о помощи ближнему? — вышагивает вперед Мин, не замечает, что Хосок отстает, — Бог явно это оценит и отпустит твои грехи, — он вдруг оборачивается, резко останавливаясь...
...Потому что начинает чувствовать на руке крепкую хватку Хосока — он сжимает его чуть выше локтя, мгновенно останавливается и бледнеет; взгляд направлен куда-то дальше, сквозь Юнги, и пианист не может понять происходящее — Чон лишь крепче сжимает его своими пальцами, едва делая небольшой шаг назад.
— Хосок? — Юнги не понимает и прослеживает линию его взгляда.
Медленно оборачивается, почти не дыша... Он уже видел этого мужчину на прошлой неделе... Это отец Хосока, кажется?
Но тогда в церкви он выглядел совсем иначе: то был порядочный христианин в выглаженной белой рубашке, с уложенными волосами и гладко выбритым лицом — тогда он улыбался, учтиво переговаривался с пастором Дондуком и внимательно слушал выступление сына со сцены.
То, что Юнги видит сейчас... Взъерошенный, помятый, неопрятный, с торчащей рубашкой из-под ремня... пьяный, он рыскает взглядом и громко несет какую-то несуразицу, выкрикивая имя Хосока. Да как его вообще могли пустить в школу?
Юнги этого не осознает, но он вдруг вышагивает вперед, будто пряча за своей спиной хориста, выпячивая грудь, смотря на мужчину почти без страха, только лишь с непониманием... что происходит? Хосок все еще сжимает его руку позади.
— Юнги, нет, — хорист быстро перекладывает свою руку на плечо пианиста, утягивая его назад, — я сам... это мой отец.
— Что ему нужно? — он не понимает, поддаваясь движению парня.
— Вот ты где, падаль! — громко рычит Чонгу, вышагивая вперед по коридору — Юнги не шевелится, но теперь и в правду становится как то не по себе: мужчина выглядит уж слишком угрожающе, его глаза горят, рот приоткрыт, и он вышагивает, грозно размахивая руками...
— Я разберусь, я разберусь, — Хосок почти с силой оттаскивает Юнги назад, выступая вперед, — пожалуйста, ты иди... я... — сорвано щебечет парень, и Мин видит то, насколько его лицо бледно, а уши красны, — это мое дело... я... сейчас... пожалуйста, иди... я...
«Я не хочу, чтобы ты это видел»
Юнги отступает назад на несколько шагов, совсем теряется — Чонгу кажется гигантом: разъяренным, страшным, диким и... опасным. Хосок выставляет руки вперед, дрожа:
— От.ец... простипожалуйстаянедолженбыл, — в одно слово выбрасывает он, горбясь, поднимая плечи, пряча шею, — давайпожалуйставыйдем, — продолжает лепетать он, — давай не здесь, прошу, давай выйдем за ворота, они увидят...!
Чонгу его не слышит, потому что он, очевидно, слишком зол и пьян; Юнги делает новые шаги назад, но не упускает из внимания ни единой детали. Открывает рот, но почти не дышит, потом в страхе столбенея.
Чон Чонгу хватает беспомощного Хосока и, как куклу, поднимает за шкирку и тут же отбрасывает к стене, от которой он мячиком отскакивает и валится на пол. Мужчина застывает над ним.