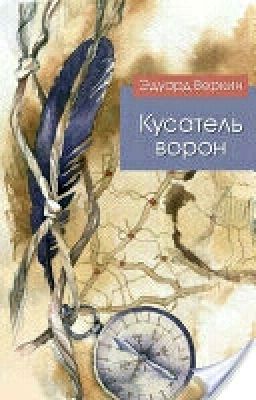Глава 8. Snegurotchka House
«Волга блистала в рассветных лучах, величаво неся свои воды к далекому Каспийскому морю. Белоснежные корабли бежали вдаль по глубоким водам, на волнах покачивались утлые рыбацкие лодки, веяло стариной. Кострома, колыбель русской государственности, встретила нас ласковым солнцем, синим небом, золотом куполов и сахаром стен. Ипатьевский монастырь, выставка Ефима Честнякова, резиденция Снегурочки и прочие достопримечательности, друзья с восторгом встретили и осмотрели эти жемчужины русской культуры».
Так записал я в блоге. Тег «В пути».
А если честно, Кострома встретила нас липким безрадостным дождем и стихами Пятахина. Влас очень хотел доказать, что он лирник не по техпаспорту, а по жизни, и явил на суд публике небольшую поэму, в которой рифмовались «снегурочки» и «дурочки», «пыль» и «мотыль», «крылья» и «забыл я». Пятахин продекламировал это с выражением и объявил, что это прелюдия к его эпической поэме «Апрельский пал», которую он зачитает скоро и неотвратимо.
Стихи и баржа с углем, тошнившая куда-то в пустоту по серой Волге. Как это – быть капитаном угольной баржи, когда вокруг проплывают действительно белоснежные круизные теплоходы, тянущие вдаль беззаботных туристов? Невесело. Если бы капитан, управляя баржей, услышал пятахинские стихи, он бы утопился в гальюне, предварительно открыв кингстоны.
Жмуркин похлопал стихам так искренне, что мне показалось, что ему стихи понравились, раньше он был, помнится, склонен к идиотизации действительности, видимо, эту привычку до конца изжить не получилось.
– А теперь приступим к культурной программе, – улыбнулся он. – Для начала давайте возьмем...
– А ближе всего здесь Снегурочка, – сообщил вдруг Лаурыч. – Буквально две улицы. Мы там с мамой были, там водку в ледяных стопках наливают!
Лаура Петровна дернула Лаурыча за шиворот, Лаурыч мотнулся, как кукла, громыхнул зубами.
– Тогда нам туда! – сказал Пятахин. – К Снегурочке!
– Реально, поедемте к Снегурочке, – подхватил Листвянко. – Там прикольно, мне рассказывали.
– Там ледяной гроб! – продолжал Пятахин. – Все изо льда! И температура минус сорок пять, как на Северном полюсе!
Я бы лично, конечно, отправился в музей, посмотреть на Честнякова, на живопись всякую, но все неожиданно завыли в пользу Снегурочки.
– Но Снегурочка у нас последней по списку...
Жмуркин поглядел на Лауру Петровну, та самоустранилась.
– Тут на самом деле недалеко, на Лагерной, – проинформировал Лаурыч. – Вон за тем домом, туда поворачивать... три минуты.
– На Лагерной? – не поняла Александра.
– Гулаг-Штрассе, – пояснил я. – Тут еще со времен Василия Шуйского застенки были. А теперь в тюремных подвалах сделали резиденцию Снегурочки. Сама увидишь.
Александра написала на бумаге, сунула Дитеру с Боленом, они восхитились. Кто из иностранцев не захочет погулять по Гулаг-Штрассе?
Автобус въехал на улицу Лагерную. Она оказалась вполне себе нормальной, скорее всего тут раньше размещались военные лагеря или пионерские, но рассказывать про это Александре я не стал, зачем лишать родину очарования?
Дом Снегурочки был выдержан в стиле. Неотесанные бревна, закомары, балясины, наличники и прочие украшения, коньки-горбунки, короче. Вокруг врытые в землю столбы, идолы из русских народных сказок, Лихо одноглазое и тому подобные берендеи, дубы-колдуны, какие-то грибы поганки и мелкий невысокий народец, похожий то ли на гномов, то ли на ежей-переростков, мне показалось, что их выпилили из небольших чурбаков. Скамейки из ясеня, ворота, которые никуда не ведут. Должен признать, все это было красиво сделано, чувствовалось, что Снегурочка где-то здесь, вот-вот выскочит-выпрыгнет, пойдут клочки по закоулочкам.
Но оказалось, что Снегурочки пока нет. Штатная Снегурочка заболела, а у приглашенной был ненормированный рабочий день, все равно в такую погоду никто не хочет окунуться в ледяной погреб, ну, разве что какой-нибудь оригинал из Копенгагена. Так, во всяком случае, сказал нам распорядитель, второй помощник Снегурочки, если судить по бейджу, Агафон.
Я особо не удивился, что Снегурочка в отпуске, и не удивился, что Жмуркину удалось быстро убедить Агафона пустить нас в ледяной погреб, в конце концов, где еще встретишь целый автобус лопухов в такую погоду?
Тубергерл Рокотова и ее спутник тубербой Герасимов в ледяной погреб спускаться не стали по причине слабого здоровья, Лаура Петровна сказала, что она и в автобусе посидит, остальные вроде были не прочь. Даже Иустинья прельстилась.
Нам выдали совершенно роскошные шубы до земли, не шубы даже, а скорее дохи, тяжелые и пахнущие сельским хозяйством. Мы все обрядились в них и стали похожи на закарпатских партизан. На головы мы натянули такие же мохнатые шапки, дизайном «папа должен умереть», на ноги валенки, свалянные по старинным рецептам в глубинах весьегонской волости из волчьей шерсти. Агафон проверил наше облачение, после чего дал добро на спуск в ледяной ад.
И ведь спустились. Агафон отвалил тяжелые двери, и мы сошли по ледяным ступеням, держась за ледяные поручни, выдыхая космический пар и чувствуя, как глаза изнутри прилипают к векам.
Дом Снегурочки оказался что надо. Сплошной лед. Мебель изо льда, сосульки с потолка, ледяная койка, ледяной стол и ледяной столб, и прочая ледяная утварь. Очень сухо и тихо.
В центре подвала потолок немного просел, видимо, по причине летнего времени, и в помощь ему поставили полированный металлический столб, в котором мы все немедленно отразились.
И самовар. Огромный, настоящий, с медалями. Хотя нет, не настоящий, электрический. Но переделанный из настоящего – сбоку торчал шнур с розеткой. Александра сразу устремилась к нему, а я стал прислушиваться к своим ощущениям. Тихо. Мертво. Забыто. Хорошо. Я зиму люблю гораздо больше всякого лета.
– А тут ничего, – сказал Листвянко. – Прохладно так.
Он притянул к себе Снежану, влюбленные обнялися.
– Тут вообще-то чай горячий обычно наливают, – сообщил Лаурыч. – Очень интересные ощущения – сидишь весь в морозе, а чай просто кипятковый.
– Это чайник? – спросила меня Александра, указав на самовар.
– Самовар, – объяснил я. – Зельбст... Зельбстгемахтер... кажется.
Пятахин лег на ледяную постель и выпустил задумчивый воздух.
– Жохова, – позвал он. – Как тебе тут, а? Ты девица к холоду привычная...
Жохова не обратила внимания.
Я обошел Ледяную комнату по периметру, отметил, что есть в ней какой-то смысл, и в общем не зря я тут побывал, вспомню потом, напишу.
Дитер присел на ледяной стульчик и стал рисовать. Он, кажется, везде рисует, красиво и быстро, кажется, что двумя руками сразу. Ледяная комната, а в ней вмороженные в лед Снегурочки по правую руку, а по левую инопланетяне вмороженные. Низкие, зеленые, глазастые.
Я замерз. Не знаю, но доха мне не особо помогла, как, впрочем, и валенки. Я задрожал и вышел в тепло, на поверхность, сел на завалинку. За мной показался Жмуркин в пару и в морозе, скинул шубу, подул в руки. Затем начали подниматься остальные, Гаджиев, Листвянко...
И все.
Я поглядел на Жмуркина.
Он пожал плечами.
– В Ипатьевском монастыре, кажется, есть чучело щуки, – печально сказал Жмуркин. – Ей двести лет было, когда ее поймали.
– А чучела снежного человека там нет? Того, Кологривского?
– Нет. То есть не знаю, может, где-то в запасниках.
– А как Снежок, кстати? – поинтересовался я.
– Жив, – улыбнулся Жмуркин. – Жив и здоров, морда только еще больше поседела, да шерсть сыплется.
– Время, – сказал я. – Время это...
– Хватит, – помотал головой Жмуркин. – Это смешно. Слушай, а Генка... Ну, он письма пишет?
– Письма?
– Ну да. Ну, то есть вы с ним как-то связываетесь?
Я не успел ответить – из подвала показалась Снежана. В клубах мороза, в белоснежном инее, сама похожа на Снегурочку, я не удержался и сфотографировал.
Тег «Удивительное рядом».
Снежана смеялась. Чистосердечно так, от души, в смущении прикрывая рот ладошкой, совсем как завещал старик Островский приличным бесприданницам.
– Что? – осторожно спросил я. – Там что-то...
– Там Пятак... Короче, это надо видеть.
Снежана сбросила шубу и кивнула на лестницу. Жмуркин немного посерел.
Из подвала появилась Иустинья. Она тоже улыбалась, самодовольно так, просто лучилась внутренней радостью, что лишний раз убедило меня в подозрениях насчет недоброго.
– Что там? – рухнувшим голосом поинтересовался Жмуркин.
– Сходите сами посмотрите, – улыбнулась Снежана. – Это нельзя пропускать.
Этого было действительно нельзя пропускать. Никак. Это была... Ну просто песня какая-то. Палец мой, привыкший взвывать от боли, на сей раз взвыл от восторга, да, и такое бывает.
– Да... – прошептал Жмуркин. – Впечатляет... Что же вы, ребята...
Слова кончились.
– Это Пятак устроил, – сказал Дубина.
Пятак самодовольно крякнул.
– Я не успел предупредить, – пояснил Дубина. – Они все разом...
Дубина стоял рядом с Александрой, держал ее за плечи, фиксировал.
– Он немцам сказал, что каждый, кто посещает дом Снегурочки, должен лизнуть на память этот столб. Они и лизнули.
Немцы. Беззащитные наивные люди, какой уж там блют, какой ботен.
– А Скрайнев сам прицепился, – сказал Дубина. – За компанию.
Скрайнев покивал головой и помычал утвердительно.
Жмуркин взглянул на Пятахина.
– А что? – пожал тот плечами. – Я же не знал, что они такие!
Пятахин звонко постучал себя по голове.
Жмуркин схватил Пятахина за шиворот и пинком направил к выходу.
– За что? – плаксиво заканючил Пятахин. – Они сами...
Жмуркин выгнал Пятака на воздух.
– Как? – спросил я Александру. – Нормально себя чувствуешь?
Она вздохнула.
– Сейчас вас выручим, – пообещал я. – Главное, без резких движений.
– Я держу, – заверил Дубина.
Александра вздохнула громче. Дитер и Болен принимали муку стоически. Лаурыч умудрялся улыбаться.
Я выбежал на улицу. Агафона видно не было, мы остались наедине с проблемой. Под дождем.
Жмуркин стоял перед Пятахиным. Пятак ухмылялся.
– Ты дебил? – спросил Жмуркин.
– Я – дебил, – признался Пятахин. – И они тоже дебилы, кто же в этом виноват? Я им сказал, что это древняя русская традиция, а они и повелись...
Пятахин беззаботно рассмеялся.
– А этот? – кивнул Жмуркин. – Скрайнев? Он что, тоже из Германии приехал? Зачем он-то лизнул?
– Так и он дебил, – сказал Пятахин. – Это же всему городу известно: Скрайнев – дебил.
– Он же победитель олимпиад...
Жмуркин оглянулся на меня.
– Как будто победитель олимпиад не может быть дебилом, – ответил я.
– Разумно. Но все-таки... – Жмуркин помотал головой. – Как-то он вообще интеллектом не очень изуродован, а вроде на золотую медаль тянет.
– Дитя природы, – объяснил я. – Экологическое мышление в действии. Этот еще... Хоумскулинг.
Пятахин гоготнул.
– Что? – не понял Жмуркин.
– Его к батарее привязывают, – пояснил я. – С детства.
– Понятно...
Жмуркин вытер лоб платком.
Мимо пробежала взволнованная Лаура Петровна. На нас не поглядела, озабоченно погрузилась в Снегурочкин дом. Спасать, спасать.
– Все понятно, – вздохнул Жмуркин. – Все ясно. Слушай, Вить, там над нашим городом в последнее время никаких авиакатастроф не происходило?
– Нет вроде... – ответил я.
– Цистерны не переворачивались?
– Не...
– Такое впечатление, что народ как-то тотально поглупел, – Жмуркин потрогал пальцем голову. – Точно распылили что-то. Нет, вовремя я смотался, вовремя. И Генка тоже не дурак. Один ты застрял как в янтаре.
Я промолчал.
– Ладно, не волнуйся, мы тебя подтащим в область, нам смышленые люди нужны...
– Они там в подвале примерзшие, – напомнил я.
– Да, действительно примерзшие. Что делать будем?
– Ждать, наверное. Когда Снегурочка придет...
– Снегурочку ждать не будем, это не наш метод, – покачал головой Жмуркин. – Будем оттаивать своими силами. Где-то я здесь самовар видел.
– Он в подвале.
– Ага, – кивнул Жмуркин. – Ты дуй вниз за самоваром, а я тут посмотрю.
Я вернулся в подвал, и тут меня ждал новый удар, мой палец в ботинке просто взорвался от восторга.
У столба стояли Дитер, Болен, Александра, Лаурыч. И сама Лаура Петровна. Такие удачи встречаются раз в сто лет. Лаура Петровна стояла рядом со своим сыном. Прилипнув к стальному столбу.
Видимо, она хотела показать ему, как можно освободиться из ловушки, стимулировать его своим примером, так сказать. Но переоценила свои скромные силы. И влипла. Гениально.
– Бывает же такое, – сказал я вслух и стал разглядывать столб.
Немцы, как люди, воспитанные на европейских общечеловеческих ценностях, лизнули трубу аккуратно, кончиком языка. Лаурыч поступил наоборот – выставил язык на четыре километра и приложил его к трубе по всей длине, основательно так. Лаура Петровна стояла возле столба с достоинством, как и полагалось стоять чиновнику городской администрации.
Интересно, но зачем Александра лизнула? Ну эти понятно, один Дитер, другой Болен, дремучие и глухонемые, им простительно, но Александра... Вроде девушка умная, а туда же. Впрочем, жизнь – непредсказуемая штука, никогда не знаешь, как поведешь себя завтра, вот подойдешь и лизнешь студеные качели.
– Лаура Петровна, зачем? – спросил я.
Лаура Петровна проигнорировала. Оно и понятно.
– Неужели из международной солидарности? – предположил я.
– Виктор?! – позвал сверху Жмуркин. – Ты скоро?
Я не ответил. Нетерпеливый Жмуркин спустился сам.
– Лаура Петровна, а вы-то как?! – вопросил он. – Зачем вы-то этот столб лизали?!
– Могу поспорить, здесь где-то спрятан гипнотизер, – сказал Пятахин.
Он тоже спустился и теперь с интересом смотрел на происходящее.
Лаура Петровна произнесла:
– Э-э-э!
– Массовое помешательство, – продолжал Пятахин. – Держу пари, это веселящий газ.
Я достал фотоаппарат и зафиксировал. И видео еще. Иногда не хочешь делать быдлеску, а она сама собой получается. Бесспорно, это будет одной из жемчужин моей коллекции.
– Интересно, если их вот так оставить, много еще прилипнет? – спросил Пятахин.
– Штуки две-три, – предположил я.
– Ты быдлеску, что ли, снимаешь? – заинтересовался Пятахин.
Я не ответил.
– Точно, быдлеску... Ну, тогда и я хочу.
Пятахин выбрал место между Лаурой Петровной и Боленом и поцеловал столб. Прилип.
– Бред какой-то, – Жмуркин поглядел на меня. – Салтыков-Щедрин...
Я пожал плечами.
– Люди, что с вами? – спросил Жмуркин. – Это же... сюрреализм какой-то.
Дубина рассмеялся.
– Это как в «Десять негритят»! – сказал он. – Все по одному...
В подвал заглянул Гаджиев и тут же с перепуганным видом удалился.
– Надо их как-то выручать, – сказал Жмуркин. – Я думаю...
Снова показался Гаджиев.
– Там экскурсия приехала, – сказал он. – Они тоже хотят.
– Что хотят? – уточнил я. – Прилипнуть к шесту?
Пятахин в восторге замычал.
Дубина засмеялся.
Жмуркин пронзительно поглядел на меня. Я схватил самовар и поволок его на воздух. Сейчас затоплю... или растоплю. Короче, раскочегарю, а потом... Надо найти розетку. Я огляделся. Дверь, в которую удалился Агафон, была закрыта на тяжелый навесной замок. И вообще, самовар был еще менее настоящим, чем мне показалось в первый раз. То есть когда-то он, конечно, был настоящим, но теперь в нем были насверлены дырки, в глубине которых поблескивали разноцветные светодиоды. Лампа, а не самовар.
Из снегурочкина застенка выскочил Жмуркин, нервный и замерзший, в пару.
– Ну что? – он кивнул на самовар. – Скоро?
– Самовар не настоящий, – ответил я.
– Ты уверен?
– Абсолютно. Самовар ненастоящий... – печально повторил я.
– Зато дураки, кажется, настоящие, – вздохнул Жмуркин. – Как? Как можно заниматься политикой в нашей стране? Если даже немцы буквально на третий день пребывания умудряются лизнуть намороженные качели? Да еще и летом... Это какая-то бездна... Что делать?
Я не знал, что делать. Ну, разве что пойти и для эскалации безумия прилипнуть к столбу самому. И тогда это будет уже не маразм, а вовсе флэшмоб.
Ситуацию спас Агафон. Он появился откуда-то со стаканчиком колы и огромным бургером в руках, окинул взглядом поле боя, меня с самоваром, и все, кажется, понял. Откусил от бургера, кивнул на подвал.
– Примерзли? – спросил он сквозь жев.
– Да, примерзли, – сокрушенно кивнул головой Жмуркин. – Кто бы мог подумать...
Где-то далеко и сбоку саркастически прохихикала Жохова.
– Да у нас все время примерзают, – сказал Агафон. – Чуть ли не каждую неделю. А в прошлом году аж двое сразу умудрились пристать – пол-улицы сбежалось смотреть...
– У нас шестеро, – перебил Жмуркин.
– Что? – не расслышал Агафон.
– У нас шестеро прилипли, – раздельно произнес Жмуркин.
Агафон поперхнулся.
Выпучил глаза.
Присел на скамеечку.
Отплевавшись бургером, Агафон запил свое потрясение лимонадом и осторожно поинтересовался:
– Вы из какого города, ребята?
– Из Скотопригонска, – ответил я за Жмуркина. – Нам бы людей спасти, у нас там глава Департамента образования...
– Тоже прилип?
– Прилипла, – уточнил я. – И страждет.
– Да, – ухмыльнулся Агафон. – У вас в городе, наверное, просто расцвет просвещения, обязательно съезжу... Это в какой области?
– В Вологодской, – соврал я. – Надо спасать.
– Да-да...
Агафон вздохнул и с усилием запихал в рот почти весь гамбургер. После чего сбегал в подсобное помещение, погремел жестянками и вернулся с паяльной лампой.
– Тут все просто, – сказал Агафон. – Главное не перегреть.
– Да вы уж постарайтесь.
– А то.
Агафон зажег лампу и двинулся в подвал. Я смотреть на это унылое зрелище не пошел. Жмуркин пошел, проконтролировать, чтобы случайный выброс не воспламенил Лауру Петровну.
Почти сразу из подвала стали показываться спасенные. Первым на поверхность поднялся, разумеется, Лаурыч. Он выглядел растерянно, высовывал язык и пытался разглядеть на нем повреждения.
За ним немцы. Кажется, немцы были довольны приключением. Дитер прямо на ходу что-то быстро-быстро рисовал в своем альбоме, а Болен то и дело озарялся странной и счастливой улыбкой. А ничего, они хотели Кафку, они получили Кафку. Даже не Кафку, а Салтыкова-Щедрина, прав Жмуркин, куда ихнему Кафке до нашего Кафки.
Александра морщилась от боли, но при этом старалась бодриться. Правильно, Россия – земля мужественных женщин, это вам не Рейн-Вестфалия какая.
За ней из недр восстал поэт Пятахин. Выглядел он разочарованно, видимо, такое простое развитие ситуации не входило в его планы.
Дубина же выглядел довольно, холод такого лба не пробрал, зато развлечений было через край.
Лаура Петровна, как командир корабля, поднялась на палубу предпоследней. Жмуркин сразу за ней, протянул руку Лауре Петровне, но та его помощь отвергла, прошествовала в сторону автобуса. Навстречу ей выбежал Лаурыч с радостным лицом... Видимо, она хотела что-то сказать. Но язык болел. Поэтому она ограничилась стандартным подзатыльником.
– То ли еще будет... – с печалью прошептал Жмуркин.
– Контингент сложный, – заметил я. – Работники творческого труда, с ними нелегко.
Агафон потребовал пятьсот рублей на керосин.
– Ты про это не пиши, – заметил Жмуркин. – Ну, про трубу.
– Как скажешь.
Погрузились в автобус, поехали устраиваться в гостиницу, это заняло почти два часа. Пока они все там устраивались, я сидел в кресле на первом этаже, набрасывал в планшет про снегурочкину избушку и весь этот свершившийся жесткач. Ну, что мы все в едином порыве устремились... И так далее. Долго не мог придумать, что мы совершили в едином порыве. Нет, оно и раньше случалось – ну, что реальность перекрывала журналистские фантазии, но чтобы так мощно...
– Бенгарт! – прошипела Лаура Петровна неожиданно у меня прямо над ухом.
Так, что я даже чуть подпрыгнул.
Оторвался от своих творческих дум, оглянулся.
Лаура Петровна стояла возле кресла. Смотрела в сторону.
– Зайди ко мне в номер, Бенгарт.
– Лаура Петровна, – сказал я. – Я вас тоже, конечно, уважаю, но не поймите меня превратно...
– Зайди!
Лаура Петровна сказала это повелительно. Я хотел осведомиться – не болит ли у нее язык, посоветовать прикладывать холодное, ну, или облепиховым маслом помазать, но не стал обострять.
Номер был небольшой, но вполне себе уютный, две кровати, одна для Лауры Петровны, другая для Лаурыча, пузатый чемодан. Вообще, я, конечно, рассчитывал встретить упаковку памперсов, горшок и комиксы про говорящих мышей, но ничего подобного я, к сожалению, не увидел.
– У вас уютно, – сказал я. – Лауры... то есть Паша...
– Где снимки? – взяла за глотку Лаура Петровна.
– Какие снимки? – попытался скосить я под дурачка.
– Не придуривайся, Бенгарт, ты ведь снимал. Там, в подвале.
– Там так темно было...
– Бенгарт!
Лаура Петровна притопнула ногой.
– Зачем вам, Лаура Петровна? – спросил я. – Все равно я двадцать копий сделал.
Лаура Петровна сощурилась.
– Виктор, а зачем тебе это? – спросила она. – Вот это видео, эти фотографии...
– Эх, – вздохнул я. – Тут все дело в происхождении. Дело в том, что мой прапрадедушка...
– Бенгарт! Ты что, это в Интернет хочешь выложить?
Уже не так строго.
– Ну что вы, Лаура Петровна, там и так всего полно. Хотя наш случай, пожалуй, украсил бы...
– Виктор, не надо.
Уже почти ласково.
Дверь скрипнула, вошел Лаурыч.
– Привет, Вить...
– Паша, выйди!
Лаурыч вышел. Дисциплина – основа устойчивости любой семьи, я всегда про это говорил.
– Не надо это выкладывать, – попросила Лаура Петровна. – Виктор, ты ведь сам понимаешь...
– Да, конечно, – кивнул я. – Конечно, понимаю, не полено.
– Вот и хорошо. В конце концов, в нашем городе так мало хороших журналистов.
– Это точно, – согласился я. – Хороших журналистов вообще мало. Их и в столице мало, и в мире. В Германии, я слышал, хороший журналист на вес золота. О, Германия, страна предков, как хотел бы я увидеть твои тенистые логи... Вы знаете, что такое ностальгия?
Лаура Петровна скорбно вздохнула.
– Я понимаю тебя, Виктор, – кивнула Лаура Петровна. – Понимаю твои намерения... Можешь идти. А о ностальгии я серьезно подумаю...
– Яволь, кнедиге мэдхен, – сказал я. – Видергебурт, как говорил старик Мефистофель.
И отправился в свой номер.
Меня поселили с Герасимовым; когда я вошел в комнату, Герасимов сидел на койке и смотрел в стену. На меня поглядел с подозрением и с отвращением, точно это я заразил его в младенчестве туберкулезом и вообще отравил существование. Хотя его можно понять, на баторцев вообще не надо обижаться, им и так трудно жить. Но, с другой стороны, и на руках их таскать я не нанимался.
Я бухнулся в койку и спросил:
– Как жизнь?
– Нормально, – ответил Герасимов.
– Ясно. Слушай, я тут хочу к Рокотовой подкатить, она мне очень нравится. Хочу с тобой посоветоваться...
Герасимов поглядел на меня долгим взглядом.
– Все ясно, – сказал я. – Ты писал ей стихи с восьми лет, но она не отвечала взаимностью.
Герасимов промолчал.
– Я знаю, такое бывает, – сказал я. – Я сам был как-то жестоко обманут бессердечной прелестницей, отдан на поругание, ну, и так далее... Ничего, стисни зубы, и вперед, надо как-то жить, судьба ее накажет. А хочешь, я про нее статью напишу? Из мужской солидарности.
– Какую еще статью?
– Разоблачительную. Наверняка она этот свой реферат про Рейнеке-Лиса не сама написала, а сперла откуда-то...
– Ты что, совсем? – спросил Герасимов с угрозой.
– А ты шуток не понимаешь совсем. Это шутка. Сатира и юмор.
– Она сама все написала! – с сердцем произнес Герасимов. – Сама! Она три года изучала! Немецкий язык выучила! В Мюнхенскую библиотеку писала! Она...
– Понятно, – оборвал я. – Ты до сих пор пишешь ей стихи. Это по-мужски! Постоянность – мужское качество.
Я встал с койки, подошел к Герасимову, пожал ему руку.
– Я сам сочиняю, – шепотом признался я. – Если хочешь, могу прочитать...
Герасимов поспешно отказался. Но я все равно ему прочитал. Из раннего. Чтобы жизнь малиной не казалась.
Да... Проехали каких-то двести от силы километров, а столько впечатлений. И палец болит как-то иначе, я бы сказал, возвышенно. Бывает и от Жмуркина польза. Как оно ни престранно. Как оно ни удивительно.
Позвонил телефон, позвал на экскурсию.
Осмотр Торговых рядов и Ипатьевского монастыря прошел спокойно. Пассионарный заряд, клокотавший в крови моих сотоварищей, был растрачен на жилище Снегурочки, и дальше они вели себя относительно прилично. Совсем вечером мы даже прогулялись вдоль Волги. Дождь кончился, Волга была умеренно прекрасна, по волнам качались резиновые лодки с рыбаками, ну и вообще.
А завтра был Плёс.
– А это Суздаль, – устало сообщил Жмуркин в микрофон. – Один из древнейших русских городов. Гораздо древнее Москвы. Расположен на торговом пути из варяг в греки. Здесь кино часто снимают и делают медовуху.
– Безалкогольную, – тут же уточнила Лаура Петровна.
– Разумеется, – кивнул Жмуркин.
Жмуркин выглядел устало. Первая половина дня выдалась бурной, Плёс был с утра. Меня били, топили, травили джульбарсами, я чувствовал себя несколько утомленно. Мне бы отдохнуть. Но по плану был Суздаль, и мы вступили в него после полудня, въехали то есть.
Никакого Суздаля я, если честно, не увидел. Поля, деревья, асфальт разбитый, городом и не пахло, наоборот, пахло навозом, а в полях пахали комбайнеры. То есть трактористы. Прямо как в старом кино, пашут, возделывают урожай на тучных пажитях, у нас в области такого не встретишь. Особенно в районе. Нет, они, конечно, что-то возделывают на пажитях, но сами пажити эти скудны и тернисты. А в Суздале было то, что надо – поля широкие, церкви опять же блестят, грачи прилетели, Суздаль, мать городов русских...
Про Суздаль я кое-что помнил. Суздаль любил повоевать с соседями, делал это регулярно и не без удовольствия, все время захватывал в лихих набегах полонянок, потом их с большой материальной выгодой продавал то варягам, то грекам, а то и соседям, во Владимирское Великое княжество.
– В Суздале снимались такие шедевры отечественного кинематографа, как...
– Суздаль – столица огурца, – неожиданно заявила Иустинья, молчавшая еще от Костромской области.
Заявление это прозвучало настолько вдруг, что на Жохову все посмотрели.
– Я в тебе и не сомневался, – не удержался Пятахин.
– Суздаль – столица чего? – не поняла Александра.
– Огурца, – ответил я. – Гуркен унд придуркен. Тут впервые в России вырастили огурец.
– О! – Александра достала фотоаппарат и сфотографировала веси.
И я сфотографировал, как она фотографировала. И пока Суздаль еще не наступил окончательно, записал в блог:
«Путешественники с энтузиазмом встретили известие о том, что древний русский город Суздаль – столица огурца. Известный филантроп и благотворитель Иустинья Жохова рассказала друзьям, что в прошлом году она лично собрала на здешних полях восемнадцать тонн отборного овоща и перечислила его в столовые учреждений дошкольного образования. Путешественники поклялись последовать ее примеру!»
В палец невыносимо стрельнуло – и я добавил:
«Особенно вдохновилась примером Иустиньи известная германистка Юлия Рокотова. Здесь, среди золотых полей Среднерусской равнины, она обещала написать работу, в которой прослеживалась бы связь между простым русским огурцом и творчеством известного немецкого поэта Рильке».
Собственно, Рокотова мне пока ничего плохого не сделала и вообще вела себя тихо, ну, если не считать того, что она разбила сердце моего лучшего друга Герасимова. И я не собирался ее щадить.
Вокруг замелькали беленые церквушки и желтые здания девятнадцатого века, вот так когда-то въезжал сюда на своей бричке объевшийся макарон Гоголь; впрочем, может быть, он сюда и не въезжал, сюда, наверное, Грибоедов въезжал.
– Приехали, кажется, – с отвращением поморщился Жмуркин, его вся эта русская красота почему-то совершенно не вдохновляла.
Вообще-то в Суздале у нас никаких добрых дел не намечалось. По утверждениям Жмуркина, город и так был чрезмерно охвачен благотворительностью, даже немного от нее стонал. Поэтому мы могли просто погулять, подышать воздухом старины, пофотографироваться в обрамлении достопримечательностей, попробовать медовухи (безалкогольной), купить ржавый екатерининский пятак.
Автобус загудел, и мы стали медленно выворачивать на главную суздальскую улицу, невеликую весьма, зато явно старинную, судя по состоянию домов. Прочих машин было много, стояли они вдоль дороги, и наш автобус долго пробирался сквозь настоящие автомобильные дебри, как-то не очень соотносящиеся с древнерусскостью, хотя местным жителям наверняка к таким контрастам не привыкать.
Наш водитель Шварцвальд умело и привычно маневрировал меж разными транспортными средствами, натыканными так и наискосяк, и наперекосяк, и в конце концов приткнулся возле живописно увитого плющом забора. Автобус просел на подвесках и выпустил нас наружу, к изобилию народа, болтающегося вокруг. Это были тоже туристы, тут уж ничего не поделаешь, Золотое оно кольцо, судя по легкости в поведении и недешевой фототехники, москвичи.
– Тут, кажется, день города, – Пятахин хищно облизнулся. – Или день огурца. Или совместно – день Жоховой и огурца.
– Я люблю малосольные, – сказал Лаурыч.
За что был немедленно ущемлен родительницей.
– Удачно попали, – вздохнул мне Жмуркин. – У меня нехорошие предчувствия... Хотя после Плёса... Ладно, все выходим. Четыре часа, потом встречаемся здесь же. Вечером должны быть во Владимире, там у нас гостиница. Свободны. Слышали? Четыре часа!
Лучшие люди вскочили с сидений и устремились к выходу, ругаясь и гогоча, не исключая Иустинью. Я вышел почти последним, перед Жмуркиным, который замешкался, зацепившись жилеткой за кресло и оторвав карман.
Отечественные товарищи быстро растворились в гуляющей толпе, я успел прицепиться к немцам; в отличие от Плёса, здесь они держались группкой, видимо, осознали, что в России в одиночку нелегко. Немцы двинулись за народом и почти сразу попали в музей дровяного зодчества: мельницы, избы, огромное колесо для доставания воды, никогда таких раньше не видел, наверное, Кулибин придумал.
Дитер остановился возле колеса, стал задумчиво и как-то печально на него глядеть. Болен тоже. А Александра поинтересовалась:
– А это что такое?
– Колесо смерти, – брякнул я с чего-то.
– Колесо смерти? – спросила Александра.
– Ага. Это такой... Кляйне Гулаг, – объяснил я.
– Гулаг, – неожиданно произнес Болен.
Я чуть не подпрыгнул от удивления, решил было, что при виде огромного колеса в Суздале немой немец обрел дар речи, но потом вспомнил, что они ведь на самом деле просто глухие, а разговаривать могут, если захотят, конечно. Видимо, слово «Гулаг» Болену было хорошо знакомо, кроме того, оно прозвучало так дребезжаще и грозно, что все немцы немного поежились. А я продолжил врать.
– Раньше в каждой деревне такие колеса стояли, – рассказывал я. – Это очень удобно – всегда под рукой имелся свободный привод, никакой мельницы не надо.
– Они электричество вырабатывали, наверное? – Александра кивнула на колесо.
– Да, потом уже и электричество. В них сажали врагов народа, и они тут вырабатывали ток, освещали улицы, школы, больницы. «Лампочка Ильича» называлось.
– Лампочка Ильича, – голосом морского дьявола повторил Болен, лучше бы молчал, честное слово.
– Интересно.
Немцы по очереди сфотографировались на фоне колеса, с таким серьезным историческим видом, что я подумал, что, пожалуй, немного перестарался. Вот вернутся они в свои дюссельдорфы и будут рассказывать, что у нас в каждой деревне был свой Гулаг еще со времен Ивана Калиты, в адских колесах бежали невольники, вырабатывая деревянное русское электричество.
Тег «Русские горки».
Запечатлевшись на фоне гулаговского колеса, немецкие представители отправились в настоящий двухэтажный «дом зажиточного горожанина» и не появлялись долго, поскольку внутри их немедленно развели на чай из самовара и кренделя; мне ни самовара ни кренделей не хотелось, я сел на скамеечку и стал смотреть.
Передо мной была довольно широкая полянка, с аккуратно посеянной травой, на полянке валялся разный отдыхающий столичный люд и всякие прочие иностранцы, все жевали пироги, пили медовуху и хрустели огурцами всех видов приготовления. Туда-сюда бродили дети и пара фольклорных ансамблей, которые за пятьсот рублей охотно исполняли желающим песни – от академической «любо, братцы, любо» до совсем здесь непредсказуемой «smell like teen spirit». Местные подростки, как я и предполагал, понуро впаривали желающим ржавые монеты времен России молодой и пряники России современной.
Остальные наши герои тоже нарисовались на поляне. Герасимов и Рокотова робко изучали мельницу. Иустинья Жохова прошлась справа налево, лакомясь облаком сахарной ваты, на всякий случай я заснял это безобразие. Пятахин шагал с ромашкой, нюхал ее и о чем-то размышлял, совсем вроде как настоящий поэт, сочиняющий бессмертный «Апрельский пал».
Выпил квасу, настоянного на огуречном цвете, ничего, напитки в Суздале делать умели. Из дома показались немцы, довольные, заевшие впечатления от колеса Гулага сырными плюшками и самодельными ирисками, меня, кстати, тоже угостили. Ириски были вкусом из давнего детства и застряли в зубах, как я понял, именно это качество немцы в них больше всех и оценили, повышенная вязкость свидетельствовала о повышенной же натуральности.
Снова проследовала Иустинья, с еще большим пучком сахарной ваты, казалось, что не она несет эту вату, а вата ведет ее, точно Иустинья никогда не ела ничего сладкого, только камни глодала, ну, еще немного хлеба из толченых акрид.
Счастливые немцы. Я хотел предложить им сходить к мельнице, купить каравай, испеченный по средневековым рецептам, но немцы неожиданно устремились в сторону вполне аутентичного плетня, возле которого с одобрительными возгласами толпился народ.
Как оказалось, народ не ошибался – у плетня проходила ежегодная выставка-ярмарка гусей боевой породы.
Выставка боевых гусей немцев немного озадачила.
– Это... – Александра указала на птиц мизинцем. – Это кто?
Мы не спеша перемещались вдоль невысоких загончиков, в которых теснились плотно сбитые мускулистые птицы с крепкими клювами и низкими лбами. Гуси неприветливо поглядывали исподлобья и, иногда впадая в боевую ярость, начинали грызть сетку загона.
Страшные твари, странно, что Иустинья ими не заинтересовалась, ей такого гуся не помешало бы иметь на подворье, травила бы им отступников и ренегатов.
Гуси шипели, публика была довольна, гуси выглядели страшно, готовы были сорваться и вспотрошить какого-нибудь врага.
– Кто это такие? – повторила Александра вопрос. – Птицы...
Пришлось вспоминать познания в родном языке.
– Вер... Верганза, – объяснил я как смог. – Тотенганц то есть... Гусь-бультерьер... Короче, свинье не товарищ.
– Зачем они? – непонимающе спросила Александра. – Они что делают?
Я хотел было объяснить наличие в Суздале фермы боевых гусей загадочной русской душой, но потом решил не разрушать очарования.
– Особая порода, – сказал я негромко, конспиративным шепотом. – Взрослый самец может заклевать до смерти конвойную овчарку. На лету сбивает человека. Может питаться березовой корой.
Немцы слушали, открыв рот, я продолжал:
– А вообще их кормят сырым мясом и натаскивают особым образом – чтобы гусь мог вырвать кусок голени на бегу. Они все состоят на учете ФСБ, между прочим. Вот так-то. А вы говорите Рейнеке-Лис.
Дитер переглянулся с Боленом. Болен пожал плечами, Дитер стал зарисовывать опасных птиц, разумеется, в своем неподражаемом стиле – изобразил концлагерь, вышки, колючую проволоку, а вместо злобных вертухайских псов – безжалостные вологодские гуси в строгих ошейниках.
– Да... – протянула Александра. – У нас таких гусей нет.
– Это что, – я махнул рукой на гуся. – У нас в городе собачий питомник есть...
– Знаю! – радостно воскликнула Александра. – Я передачу видела – там собак учат под танки кидаться!
– Не, – помотал я головой. – Это все вчерашний день, сейчас собак на другое натаскивают. Они должны...
– А Пятахин стоит на мосту и рыгает, – сказала откуда-то появившаяся Жохова.
Интересная девица эта Жохова, всегда неожиданно появляется, раз – и появилась. Уже без ваты, наелась уже, теперь у нее в руках был попкорн, целое ведро.
А в глазах решимость, неотвратимость и тому подобное счастье.
– Что делает? – не понял я.
Но Жохова не удостоила меня повтором, хмыкнула и стала кормить боевого гуся Ксеркса попкорном.
Пятахин рыгает на мосту. Вроде бы ничего страшного, но кто знает, во что это может вылиться? А вдруг мост рухнет? А на мосту делегация из Бразилии.
– Пойдемте к реке, – предложил я немцам. – Там цветут кувшинки, это очень красиво.
– Кувшинки? – улыбнулась Александра.
– Любимый цветок Пушкина, – сказал я. – Его отсюда прямо к императорскому двору возили в бочках. Русский лотос.
Любимый цветок Пушкина русский лотос возымел действие, немцы оторвались от кровавых гусей и направились к реке.
Там действительно было красиво, никаких кувшинок, конечно, но сама по себе река отличалась живописностью, луг на противоположном берегу, стена крепости и белые соборы, и старинный крепостной вал, и простор, обозначенный слева. Возле берега располагались мостки с самоварами и плетеными креслами, в которых сидели туристы, жевали баранки и производили гоголевское впечатление.
Через речку был перекинут невысокий мостик, мы направились к нему. Александра поинтересовалась, где кувшинки, я ответил, что они показываются не каждый день, а только при определенном атмосферном давлении, она поверила. Эти немцы как дети – удивляюсь, как их до сих пор какой-нибудь более практический народ не захватил. Вот если бы взять наш город и телепортировать его вдруг в Германию...
Месяца эта их Германия не продержалась бы.
– Кувшинок нет, пойдемте огурцов поедим, – предложил я. – Их у моста, наверное, продают. Тут недалеко.
– Мы и так наелись, – Александра похлопала себя по животу, Дитер и Болен последовали ее примеру, по своим похлопали.
– Огурцы как раз должны сверху упасть, – объяснил я. – Они вкусны и способствуют пищеварению. Это русская традиция – заедать огурцом.
Немцы переглянулись.
– Точно, – сказал я. – Точно, способствуют.
И мы двинулись к мосту.
Возле моста стояли коренные суздальцы, в основном пожилые тетеньки с небольшими бочонками на колесиках. В бочонках плавали соленые огурцы, десятка за штуку, на мой взгляд, цена вполне людоедская, но зато и вкусовые качества на высоте. То есть очень. Очень. Однажды дедушка привез нам целое ведро суздальских огурцов, я попробовал один и остановился только через пятнадцать штук, забыв и про Пятахина, и про бразильскую делегацию.
Суздальские огурцы в Суздале были еще вкуснее.
Взяли сразу по две штуки.
Суздальский соленый огурец...
Это стоит попробовать.
Я попробовал и сразу купил еще. Очень, очень вкусно, нигде больше не купите. Немцы тоже оценили, тоже взяли по второй паре. Стояли, хрустели сосредоточенно – где еще в мире такое встретишь?
Поедание огурцов сопровождалось веселой процедурой их добывания – огуречница вручала каждому гурману по небольшой остроге, привязанной к бамбуковой палке, этим инструментом следовало накалывать плавающие в рассоле огурцы. Огурцы уворачивались, немцы восторженно мычали, огуречница нахваливала товар, рассказывала, что ценители приезжают не только из Москвы, Петербурга и всего Центрального федерального округа, но даже из Объединенных Арабских Эмиратов. Нет, кроме шуток – шейхи обожают соленые суздальские огурцы...
Короче, мы съели по шесть штук каждый и немного устали, и сели на траву, так, по-нашему, по-древнерусски, в ленивой послеобеденной дреме. Захотелось спуститься к воде, упасть в кресло, к самовару...
– Хорошо, – сказала Александра. – Суздаль – хорошо...
Еще бы. Конечно, неплохо. Все что нужно европейской душе – пряники, Гулаг, огурцы, белоснежные сахарные церквушки, близ воды непонятная избушка на курьих ножках, зачем она – не дает ответа...
Я пригляделся и заметил Пятахина, он стоял на середине моста, сосредоточенно плевал в воду и смотрел, что происходит с плевками – клюют ли их прожорливые рыбы? Не рыгал. Странная ассоциация возникла у меня, я вдруг подумал, что раньше Пятахин, наверное, был бы авгуром, ну, если в Древнем Риме. Предсказывал бы судьбу по ослиному помету и по полету птиц, имел бы успех и постоянную клиентуру. Дураки, они хорошо обычно грядущее предчувствуют, я замечал.
Эти мысли мне понравились, и я быстренько записал в таблетку:
«Наблюдая за полетом птиц, известный своими духовными прозрениями поэт Пятахин предсказал проекту добрую дорогу».
Туристический люд шатался туда-сюда, переходил через мост, восхищался. А я думал, что вот году в шестидесятом, до всего этого нелепого туристического изобилия, здесь на самом деле было хорошо. Во всяком случае, жизнь была настоящей, люди чего-то делали, работали, овес сеяли, а не думали, как получше ободрать туристов.
На мосту рядом с Пятахиным объявилась Жохова, под локтем толстая книга в черной обложке, в руке леденец. Они о чем-то поговорили, Пятахин указал в реку, и Иустинья стала тоже плевать в воду и, кажется, даже смеяться. С непристойными нотками, пожалуй. А еще дочь пресвитера.
Солнышко пригревало, и я как-то стал уже успокаиваться и думать, что, может, хотя бы Суздаль не подгадит, но тут за спиной загудело, и на приречную улочку выкатил огромный, как «боинг», автобус. Автобусные двери расступились, и на воздух выдавилась ярко разодетая толпа.
– Французы, – брезгливо поморщилась Александра и что-то сказала своим соплеменникам.
Дитер и Болен тоже поморщились. Французы галдели громко, размахивали руками и гоготали, мы решили перейти реку, на берег, где травы.
Пятахин и Жохова сосредоточенно плевали в воду и на нас внимания не обратили, я подумал, что если Пятахин когда-нибудь ни с того ни с сего женится на Жоховой, то у них наверняка появятся отпетые дети, такой вот я жесточайший. Немцы поглядели на них с удивлением, но уже не с потрясением, ЗРД, что тут скажешь?
Слева за мостом оказалось настоящее болото – с ряской, камышом и с теми самыми кувшинками, болото вызвало у немцев умиление, они пожелали к нему спуститься поближе, я препятствовать не стал, лег в травы и уснул, уже лето, в травах спится хорошо.
Мне снилось что-то из истории Владимиро-Суздальского княжества. Свистели стрелы, скакала монгольская конница, горожане лили на осаждающих кипящую смолу, а я смотрел на все это откуда-то со стороны, точно с воздушного шара, точно все это происходило в святочном ящике, в который я заглянул через отверстие для глаза. И вот уже злой монгол с лицом Иустиньи выставился из западенки и прицелился в меня из лука, прямо в лоб выстрелил, но попал в палец. И палец взвыл, я вскочил, пронзенный стрелой, и обнаружил, что надо мной стоят, конечно же, немцы.
Счастливые. Какой-то сегодня день немецкого счастья в самом деле, надеюсь, если в следующем году мы поедем в Германию, я тоже там буду счастлив. Сяду на берегу Рейна, стану тосковать.
– Пойдем в монастырь, – сказала Александра. – Он древний?
– Древнее не бывает.
Когда девушка зовет тебя в монастырь – разве можно ей отказать?
Пошли в монастырь, белоснежный и чистый, как небо над ним, такая вот красота.
За крепостным валом, давно заросшим дикой травой, возвышался бревенчатый терем, выстроенный недавно, возле терема стояли люди, небольшая толпа, состоявшая из туристов и свадьбы, то есть из двух свадеб, лично я увидел двух невест. Наверное, тут был какой-то обычай – возлагать цветы к этой избе или еще чего, не знаю, никто, как мне показалось, сейчас цветов не возлагал, все смотрели на крышу этого домика.
А там сидел Дубина.
Листвянко, МВД, чемпион по боксу. А рядом с ним гусь владимирской бойцовской породы. Как они оказались на крыше вместе...
– Что это с ним? – спросила Александра.
И кошка. Еще на крыше сидела кошка. Конечно, если бы там помимо Дубины и гуся сидел еще и медведь с балалайкой, это было бы вообще поднебесно, однако и кошка меня порадовала. Завершала композицию. Что-то мне часто кошки попадаются.
– Что с ним? – повторила Александра.
Если честно, я не знал. Мне показалось, что наш добрый боксер просто свихнулся. По-другому объяснить столь экстравагантное поведение я не мог. Солнечный удар, к тому же все боксеры на голову слабы, их в эту несчастную голову все время бьют – вот и результат, вроде тихий-тихий, а потом с гусем на крыше терема. В Суздале.
Александра сфотографировала. Я тоже. Редко такое встретишь. Не зря, не зря мне стрела прямо в палец вонзилась. Дитер начал быстро-быстро зарисовывать.
– Зачем это он? – продолжала спрашивать Александра.
Зачем... А кто его знает? Вообще мы от Пятахина ожидали, а отличился Дубина. Молодец, пришло время выйти на сцену.
Вокруг продолжали собираться досужие иностранцы. Они никак не могли понять – залез ли туда Дубина просто так, от переполнявших его чувств, либо в этом был какой-то смысл. Не протестовал ли он против произвола и отсутствия свободы слова, против бесправного положения цирковых медведей, ну, мало ли?
– Он протестует? – с предвкушением поинтересовалась Александра.
– Да, – ответил я. – Протестует.
Немцы оживились. Протестует... Знать бы, что это Дубина протестует, как-то он слишком быстро...
– У него брат – известный борец за права животных, – сказал я. – Он защищает права лосей.
– Лосей?
– Да. Он против их беспощадной эксплуатации.
– В России эксплуатируют лосей?! – поразилась Александра.
Мне стало грустно, но отступать было некуда.
– Еще как, – вздохнул я. – В каждом мало-мальски крупном российском городе есть тайные лосиные фермы. Это как Гуантанамо, только для лосей.
– Гуантанамо для лосей?! А что там с ними делают?
– Доят.
– Зачем доить лосей? – не поняла Александра.
Она все-таки прекрасна.
– Лосиное молоко продлевает молодость, олигархи пьют его литрами, – объяснил я. – Из лосиной крови делают целебный гематоген. Из их шерсти вяжут лечебные носки. На рогах настаивают тайные снадобья. Лосей сгоняют со всех лесов и эксплуатируют против их воли, их судьба ужасна.
Дитер перекинул лист блокнота и быстро изобразил беспощадную эксплуатацию лосей в глубинах Российской Федерации. Убогая ферма с дырявой крышей. На табуретке под скупой керосиновой лампой сидел человек со зверским лицом и доил лося. Именно лося – я отметил наличие ветвистых рогов, видимо, Дитер не знал, что у лосих рогов не бывает. Другой мрачный человек втыкал в лося шприцы и откачивал кровь, а женщина, похожая на рекордсменку по сумо, стригла несчастное животное огромными ножницами.
А вокруг сторожевые вышки, колючая проволока и дрессированные гуси-убийцы. В другой ситуации я бы посмеялся, сейчас мне показалось, что я вступаю в поле дурной бесконечности. В Суздале явно присутствовало что-то магическое, в какой-то момент я перестал понимать – это все на самом деле или мне это потихоньку кажется, можно было попробовать разобраться, но палеолит затягивал и затягивал...
Пусть. Какая разница, собственно? Золотое кольцо – пространство волшебства, здесь дышит древний прах, куда деваться.
А что вы хотели встретить в Суздале? Тут так все и должно быть, густопсово, гуси-лебеди, чага в чае, лоси в лаптях бредут сквозь дремучие чащи, соловей поет, кукушка кукует.
– А Дубина... то есть Вадим, – я указал на крышу. – У него брат защищал лосей. Он велел закопать себя по пояс перед воротами лосефермы, а его бросили в тюрьму на пятнадцать суток, совершенно, кстати, незаконно. И вот наш Вадим таким образом хочет привлечь внимание мировой общественности к судьбе своего несчастного брата и лосей.