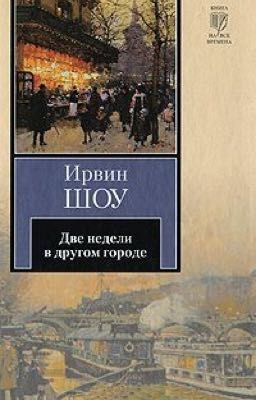ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Брезач выбрал ресторан, в котором никогда прежде не был; он слышал о нем от Вероники. Девушка как-то сказала, что это заведение ей не нравится и она туда больше не пойдет. Исходя из предположения, что, если Вероника находится в Риме, она будет избегать те места, которые посещала с Джеком и Брезачем, парень предложил пойти именно в этот ресторан.
Вероники там не было.
В этом обыкновенном маленьком trattoria кормили не хуже и не лучше, чем в сотне других trattoria города; Джек согласился с Брезачем, что Вероника, обходившая стороной это заведение, видно, руководствовалась какими-то неведомыми им соображениями.
Они выпили два графина красного вина; лицо Брезача пылало, он говорил не умолкая. Макс жадно поглощал пищу. В ресторане было тепло, но Брезач не снял пальто, потому что был без пиджака.
— Вернувшись из армии, — рассказывал Брезач, — я послал отца к черту. Мне платили пенсию — пятьдесят долларов в месяц. Я встретил человека, который собирался снимать в Нью-Йорке документальный фильм...
— Почему тебе назначили пенсию? — удивился Джек — В какой войне ты участвовал?
— Ни в какой. Я сделан из иного материала, нежели герои. Я пострадал во время учений. Это на меня похоже. Взорвавшаяся мина едва не оторвала мне ногу. Однако меня неплохо подлатали. Я хромаю, лишь когда идет дождь. Мой отец был в бешенстве. Куда он только не писал. Ему казалось, что страна нанесла ему оскорбление, так обойдясь со мной. Он даже целых две недели ласково обращался со мной. Дал семьдесят пять долларов, чтобы я отдохнул на Кейп-Коде. [47] Но я снял на эти деньги комнату на Четвертой Западной улице и заявил ему, что не собираюсь заниматься его дурацким бизнесом.
— Что он делает? — спросил Джек.
— Издает комиксы. Он — король комиксов, — пояснил Брезач. — Относится к комиксам с религиозным пиететом. Считает, что умение создавать комиксы отличает человека от животного. Отец воспринял мой отказ работать у него так, словно я был сыном епископа, заявившим о своем неверии в существование Бога. Разразился скандал, затянувшийся на всю ночь. Он сказал, что больше не даст мне ни цента, обещал лишить наследства. У него ветхозаветные представления об отношениях отца и сына. Моя мать заламывала руки и обливалась слезами. Вечера в нашем доме казались эпизодами из «Стеллы Даллас». Порой, слушая его пространные речи, я не мог удержаться от хохота. Тогда отец заявлял матери: «Видишь, что ты наделала?» Она снова принималась рыдать. Я думаю, она установила рекорд по количеству слез, пролитых американскими матерями. А ваш отец? — спросил Брезач. — Что он сказал, узнав, что вы собираетесь стать актером?
— Он сказал: «Будь хорошим актером», — произнес Джек.
— Я вам уже говорил в прошлый раз — вы родились под счастливой звездой. У вас и отец что надо.
— Был, — заметил Джек. — Он умер.
— И тут повезло.
Брезач наполнил свой бокал. Скатерть перед юношей уже была залита красным вином.
— Как вы оказались в Италии? — спросил Джек. Ему не хотелось говорить об отце.
— Человек, снимавший документальный фильм, разорился. Под конец я все делал сам — носил камеру, договаривался о кредите с проявочной фирмой, работал в монтажной. Я вкалывал по двадцать часов в сутки. Бесплатно. Одно время питался на двадцать центов в день. Потом голодал. Заболел воспалением легких. Мать забрала меня из больницы под расписку и отвезла домой. Отец не заходил в мою комнату. Он ждал, когда я приползу к нему и, стоя на коленях, скажу, что все понял, пообещаю посвятить свою жизнь комиксам. К моменту выздоровления во мне уже созрело решение поехать в Италию. Только итальянцы создают картины, от которых честного зрителя не выворачивает в кинозале. Это единственная страна, где человеку, серьезно относящемуся к кино, есть чему поучиться. Знаете, почему итальянцы делают хорошие фильмы? Они открыто, без ложного стыда находят радость друг в друге. Они восхищаются всем итальянским — пороками и абсурдом не меньше, чем добродетелью. Они видят комедию в похоронах, порочность в девственнице, святость и нечестивость возле одного алтаря. Когда американский артист смотрит на кого-либо из своих сограждан, он немедленно переполняется чувством отвращения. И я его понимаю, но это не может служить базисом для всего искусства.
— Почему ты решил, что непременно хочешь снимать фильмы?
— В двадцатом веке кино превратится в величайшее из искусств, — торжественно провозгласил Брезач. — Сейчас оно делает лишь первые неуверенные шаги.
Увлекшись, юноша возбужденно замахал руками.
— Вся красота, трагичность и мужество века найдуг свое выражение на пленке, прочие виды творчества уступят пальму первенства кинематографу. Шекспиром этого столетия станет режиссер, работающий не для нескольких сотен зрителей. Он будет творить для всего мира. Обратится к миллионам непосредственно, не прибегая к помощи слов, и люди поймут его. Индейцы, китайцы, сибирские дикари, феллахи, пеоны, кули, фабричные рабы...
Брезач говорил почти бессвязно.
— В вонючем тесном сарае на краю земли гаснет свет, и режиссер проникнет в каждое сердце, он откроет зрителям свой мир, свое видение живого человека — черного, коричневого, желтого, белого — и его чаяний. Он станет для каждого любимым братом, наставником, творцом. Вспомните Чаплина. Кто в наше время создал царство, подобное чаплиновскому? Я честолюбив. Я претендую на подобное царство.
Брезач хрипло рассмеялся.
— Ну и, конечно, мы изгнали его, выбросили вон. В глазах всего мира он олицетворял лучшее, что создала Америка в двадцатом веке, и мы этого не перенесли. Мы не стерпели свет, который он нес, его едкий, дружеский, божественный смех, и избавились от Чаплина. Вы слышали о человеке по фамилии Макгрейнери?
Джек напряг память:
— Да. Это главный прокурор штата, подписавший решение о высылке Чаплина из Соединенных Штатов.
— Вот! — торжествующе воскликнул Брезач, махнув рукой и снова расплескав вино. — Макгрейнери бессмертен. Не обойдись он так с Чаплином, Макгрейнери исчез бы так же бесследно, как лужица собачьей мочи на раскаленной мостовой. Теперь он прославился навеки. Он показал миру, что такое Америка. Макгрейнери, Макгрейнери, — запел Брезач как безумный, — да здравствует Макгрейнери, бессмертный, вечно живой Макгрейнери, символ Америки.
— Успокойся, — сказал Джек, — на тебя смотрят.
Брезач обвел зал надменным взглядом. Лысый толстяк и его полная жена, забыв о lasagne, [48] неуверенно улыбались; четверо джентльменов, сидевших за соседним столиком, перестали есть, они с недовольством смотрели на Брезача. Парень выбросил вперед руку в фашистском приветствии.
— Il duce, [49] — произнес он. — Триест. Фьюме. Bella [50] Ницца.
Смущенные посетители опустили глаза и принялись за еду.
— Вероника тоже делала мне замечание, когда я громко говорил в ресторане, — сказал Брезач. — «Ты производишь столько шума, — заявила она однажды, — в тебе наверняка есть итальянская кровь».
— Что случилось с тобой в Италии? — Джек старался увести беседу подальше от Вероники. Но дело было не только в этом — его охватило любопытство. Выпитое бренди, вино, совместные поиски исчезнувшей девушки сблизили его с юношей, Джеку хотелось побольше узнать о Брезаче, словно парень был его долго отсутствовавшим младшим братом или выросшим вдалеке сыном.
— Что случилось со мной в Италии? — Брезач невесело засмеялся. — Niente. Ничего. Я писал сценарий. Пару дней поработал статистом в латах и шлеме на съемках картины о Нероне, две недели был мальчиком на побегушках в итальянском филиале голливудской компании, которая снимала ряд сцен в Венеции.
— Ты открыл для себя нечто новое?
— Да, я понял, что самое главное — это удача.
— Твой сценарий кто-нибудь читал? — спросил Джек.
— Да. Меня даже удостоили похвалы. — Брезач опять печально усмехнулся. — Мне сказали — он слишком хорош, чтобы обеспечить коммерческий успех.
— Покажи его мне, — попросил Джек.
— Зачем?
— Вдруг мне удастся помочь тебе.
— Я не возьму у вас денег, — заявил Брезач. — Не пойду на сделку с врагом.
— О черт. Во-первых, я тебе не враг. Во-вторых, я не собираюсь давать тебе деньги.
— Тогда зачем это вам?
— Возможно, я смогу заставить Делани прочитать рукопись. Если ему понравится, он, вероятно, возьмет тебя ассистентом, — ответил Джек. — Он почти закончил одну картину, но впереди еще монтаж, озвучивание, подбор музыкального сопровождения. Делани — большой мастер по этой части. Ты бы многому у него научился. Практически уже решено, что в ближайшее время он начнет снимать здесь следующий фильм.
Говоря это, Джек подумал, что от сотрудничества Делани с Брезачем режиссер получит больше, чем юноша. Максимализм Брезача, его наивная вера в значимость кинематографа могли воскресить в душе Делани нечто давно умершее.
— Делани... — Брезач скорчил гримасу.
— Не говори ничего лишнего, — произнес Джек. — Ты хочешь, чтобы я побеседовал с ним?
— Что вами движет, Джек? Чувство вины?
— Черт возьми! — вырвалось у Джека. — Сколько раз надо повторять, что я не считаю себя в чем-либо виновным перед тобой?
— Предупреждаю сразу: если воспользуюсь вашим предложением, — сухо сказал Брезач, — я не буду считать себя вашим должником.
— Я начинаю понимать, почему твой отец был в отчаянии, а мать обливалась слезами.
На лице Брезача неожиданно появилась задорная мальчишеская улыбка.
— Я начинаю действовать вам на нервы, — заметил он. — Прекрасно. В конце концов вы меня возненавидите. Мы движемся вперед.
Джек вздохнул.
— Поговорите с ним, Макс, — произнес он.
— Роберт, — сказал венгр, — нет такого закона, который обязывал бы тебя быть порой абсолютно несносным.
— Я хочу, чтобы между нами все было ясно и просто, — объяснил Брезач. — Не терплю недосказанность.
— Ладно, я поговорю о тебе с Делани, — сказал Джек. — За успех не ручаюсь. По-твоему, у тебя есть талант?
— Огромный, — серьезным тоном произнес Брезач.
Джек засмеялся.
— Опять этот проклятый смех! — закипел Брезач.
— Извини.
Джек не хотел оскорбить парня, смех вырвался непроизвольно. Это был добрый, ностальгический смех; Эндрюс увидел в Брезаче безграничную веру в себя, нескромность юноши, еще не испытавшего безжалостных ударов судьбы.
— На самом деле я засмеялся потому, что, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, я точно так же ответил бы на подобный вопрос.
— Вы зарыли в землю свой талант, — сказал Брезач. — Почему?
— Будь вежлив, Роберт, — вмешался Макс. — Тебя никто не хочет обидеть.
— Почему? — повторил Брезач, не обращая внимания на Макса.
— Я напишу тебе длинное письмо, — сказал Джек.
— На что вы его променяли? На вашу работу в Париже? — Брезач рассмеялся. — НАТО — организация выживших из ума старцев, делающих вид, будто они способны спасти мир с помощью парадов, воинственных заявлений в прессе, и смущенно замолкающих, когда у дверей кабинета раздается грубый смех реальности. Что вы сделали, Джек, когда танки вошли в Будапешт? Где вы были, когда английский флот появился у входа в Суэцкий канал? Какой блестящий план разработали, когда десантники пытали алжирских феллахов? Выступили ли вы с гневным осуждением мистера Насера, который стравливает всех и вся? Я вас знаю. Я всех вас знаю... — разгневанно произнес Брезач. — Вы — мягкотелые, сладкоголосые, безмозглые интриганы, просиживающие свои штаны в надежде на то, что ваша болтовня на приемах заглушит грохот ядерных испытаний, тиканье мин, стоны раненых, истошные крики тех, кого убьют, пока вы пьете очередной мартини...
— Я делаю то, что в моих силах, — сказал Джек, не совсем веря в искренность своих слов; яростные нападки Брезача, прозвучавшие как эхо письма, присланного Стивеном, потрясли его. — Черт возьми, любое занятие лучше, чем участие в съемках тех идиотских фильмов, в которых я играл.
— Нет, — громко возразил Брезач. — Вы были хорошим актером. Честным. Вы не становились частью бездумно-оптимистичного заговора. Если вы не спасали других, то вы спасали хотя бы себя. С вами число спасенных душ на земле возрастало на единицу. Это не смешно. Вы излучали свет. А что теперь? Вы тратите жизнь на то, чтобы повергать мир в политический хаос и мрак милитаризации. Скажите честно, Джек: когда вам было двадцать два и вы снимались в первой картине, стали бы вы вести себя так, как сейчас ведете себя в Риме?
— Когда мне было двадцать два, я тоже спал с девушками, если ты это имеешь в виду.
— Вы прекрасно знаете — я о другом. Вы сейчас женаты, да?
— Тебе известно, что женат.
— Что вы говорите своей жене? — спросил Брезач. — Вы говорите, что любите ее?
— Довольно, — оборвал его Джек. — Вернись к политике.
— Ладно, — рассудительным, дружеским тоном продолжил Брезач. — Вы говорите, что любите ее. Но в ваших словах присутствует некая мысленная натяжка. Выразим ее численно. Десять процентов? Двадцать? Что скажете? Две недели вы проводите в Риме, потом служебная командировка в Лондон или Нью-Йорк, а Вероник везде полно, и у меня совсем нет уверенности в том, что вы ведете целомудренную жизнь в Париже...
— Роберт, ты начинаешь оскорблять Джека, — сказал Макс.
— Мы с Джеком перешли за грань оскорблений. Мы вплотную приблизились к точке убийства. Находимся у той черты, когда в глазах пылает правда.
Он снова повернулся к Джеку.
— Так вот, вся ваша жизнь построена на системе ограничений. Вы признаете обязательства любви, но строго ограниченные. То же самое справедливо в отношении вашей работы, но отдаваться ей полностью стал бы только полный кретин. Вы — человек с разорванной душой, современный, бесчестный, бесполезный, ненадежный варвар. Я выражаюсь слишком резко?
— Да, — сказал Джек. — Продолжай в том же духе.
— Поговорим о религии. Где еще обсуждать эту тему, если не в Риме? Вы верующий человек?
— Нет.
— Бываете в церкви?
— Иногда, — сказал Джек.
— А, — протянул Брезач, — ну конечно. Вы же государственный чиновник. С тех пор как у власти оказались республиканцы, путь наверх для ваших коллег проходит через храмы. Вы верите в Бога?
— На этот вопрос я отвечать не стану. Учти, у меня мало времени. Через несколько дней я улетаю в Париж.
— Кто вы, хотя бы номинально? Протестант?
— Лютеранин, — ответил Джек, — если не атеист.
Брезач кивнул:
— Если не атеист. А ваша жена?
Джек заколебался:
— Она католичка.
— А дети?
— Сейчас они ходят к мессе.
— Ага, — с холодным торжеством произнес Брезач. — Сейчас они — жертвы предрассудков, подавления духа, кровавых мифов, нетерпимости, темноты, идолопоклонничества, словом, всего того, что ненавистно их отцу. Сейчас. Вы видите, Макс, — Брезач посмотрел на венгра пылающими глазами. — Тот, кто из всего страждущего человечества надумал спасать именно меня, даже не имеет мужества открыто заявить о своем атеизме, отказывает себе в мало-мальски честном поступке, который позволил бы ему хранить верность его отсутствующему Богу. Он ловкач и приспособленец. Последите за ним, и вы застанете его определяющим направление ветра с помощью облизанного пальца. Иногда он чуть ли не крестится. Хуже того, он позволяет креститься своим невинным и беспомощным детям. Он вечно колеблется, балансирует, улыбается, терпя поражение, смеется над своим талантом, который не сберег, проскальзывает, словно угорь, через сети общества, наживается на том, что человечество боится взлететь в воздух, изменяет жене во время поездок, предает себя при каждом вдохе. Естественно, дамы его обожают и падают к его ногам, потому что он отдает им только часть себя; какая женщина устоит перед человеком, который всегда частично отсутствует? Он ложится в чужую постель так же, как заходит в церковь — не веря в Бога, не получая удовольствия от пения хора, единения с молящимися; аминь, раздвинутые ноги, аминь, кончил, аминь, принял душ, аминь, женат, неженат, аминь, аминь!
— Трезвый он тоже так говорит?
— Очень часто, — ответил Макс.
— Вы с ним, вероятно, не скучаете, — заметил Джек.
— Не шутите, — резко сказал Брезач. — Я на вас нападаю. Придет время, и вы почувствуете силу моих ударов, вы будете рыдать от боли и сожаления...
Он взял большую деревянную перечницу и посыпал перцем кусок сыра, лежавший перед ним на тарелке.
— Его делают из молока буйволицы, — сообщил он светским тоном. — Вы это знали?
— Нет, — ответил Джек.
— Я всегда мечтал жить там, где доят буйволиц, — продолжал Брезач, воткнув вилку в большой кусок сыра и поднеся его ко рту. — Мы у себя в Америке избавились от буйволов и Чарли Чаплина. Хвала Макгрейнери.
— Не заводись, Роберт, — сказал Макс.
— Так вот, когда я поправился, — спокойно произнес Брезач, словно он и не прерывал своего рассказа, — я вынудил мать заложить кольцо и дать мне денег на дорогу в Италию. Я пообещал ей: не найду за год стоящую работу в кино — вернусь домой, посвящу свою жизнь комиксам и буду чтить отца и мать, как подобает порядочному сыну. Кстати, Эндрюс, а чем занимался ваш отец?
— У него был в Калифорнии маленький заводик по производству сухофруктов.
— Господи, на что люди тратят свою жизнь. Он испытывал священный трепет перед сухофруктами?
— Нет, — ответил Джек, — он просто зарабатывал на жизнь. Отец не относился к своей работе слишком серьезно. Она позволяла ему содержать семью и покупать книги, а к большему он не стремился.
— Он был американцем?
— Да.
— Ему повезло, что он успел умереть, прежде чем Макгрейнери добрался до него.
— Роберт, — предостерегающе произнес Макс.
— Я пытаюсь узнать как можно больше о самом важном для меня человеке на свете — о Джеке Эндрюсе. Или о Джеймсе Рояле. Он для меня самый важный человек на свете, потому что он украл у меня то, в чем я нуждался больше всего. Он мой заклятый враг, демон утраты.
Брезач говорил, как безумный, прикрыв глаза; пот блестел на его щеках.
— Когда я смотрю на него, я вижу моего отца, типографию, дверь, захлопывающуюся у меня перед носом, я вижу мою любовь, уходящую вдаль по тысяче темных, незнакомых улиц, вижу постель с лежащим в ней беглецом, заменившим исчезнувшую девушку. Я смотрю на него и вспоминаю день, когда пытался покончить с собой... Для меня чертовски важно, что его отец сушил фрукты в Калифорнии. Я должен узнать все о моем враге.
— Ты напился, — сказал Джек.
— Вполне возможно, — спокойно отозвался Брезач. — Но вы, трезвый или пьяный, тоже должны узнать меня. Вы со мной связаны. Мы — главные элементы в жизни друг друга. Мы сплелись, как змеи. Вы цивилизованный человек. Прежде чем сделать что-либо для меня, вы должны получить полную информацию. Тогда потом, что бы ни случилось, вы не сможете сказать себе: «Я не знал. Это вышло случайно».
Осушив бокал, он вновь наполнил его до краев красным вином. Его руки дрожали, и горлышко графина с гербом Рима нервно позвякивало о стекло.
— Я в отчаянии, — сказал он, — и вы должны знать об этом.
— Роберт, — ласково произнес Макс, — уже поздно. Пора идти домой.
— Без Вероники у меня нет дома. Без нее я нахожусь в абсолютном нуле, при минус 273,1 градуса, там, где протоны останавливают свой бег. Господи, кто мог подумать, что в Риме со мной произойдет такое?
Брезач сделал глубокий вдох.
— Где она? — исступленно спросил он. — Она мне нужна. Может быть, она сидит в соседнем ресторане. Я схожу с ума. Нам следовало бы рыскать по улицам, принюхиваясь к запаху ее духов. Я солгал вам, Джек. Я сказал, что есть десять тысяч девушек более красивых, чем Вероника. Это было дешевой, жалкой, трусливой ложью; я сказал это, потому что чертовски нуждался в Веронике. Я умолял вас вернуть ее мне. Нет девушки прекрасней Вероники.
Сунув руку в карман своего пальто, он вытащил оттуда нож и положил его на залитую вином скатерть между собой и Джеком.
— Пусть он лежит между нами, сукин вы сын, — выдавил из себя Роберт.
— Роберт, — произнес Макс, — это ни к чему. Убери нож.
Брезач коснулся ножа, лукаво поглядев на Джека. Затем неожиданно спрятал нож.
— В моих снах это символ обнаженного стоящего члена, — тихо сказал он. — Видите, я не зря ходил к доктору Гильдермейстеру.
— В следующий раз, встречаясь со мной, — сказал Джек, — будь осторожен. Я могу захватить револьвер.
— Правда? — Брезач закивал. — Да, это было бы нелишне. — Внезапно он встал. — Я ухожу. — Брезач держался очень прямо и изо всех сил старался не качаться. — Оплатите счет, Джек. Завтра я позвоню вам насчет свидания с Делани.
Повернувшись, он скованной походкой покинул ресторан.
Макс поднялся, поправляя шарф:
— Уже поздно. Не беспокойтесь. Я принесу вам сценарий. Спасибо за превосходный ужин. А теперь извините меня...
Он снял с вешалки свою измятую зеленую шляпу, надел ее на голову и удалился.