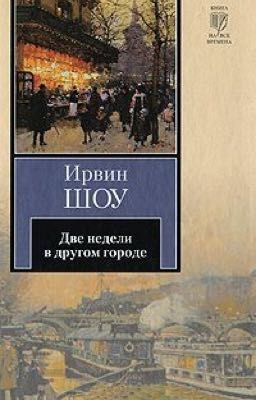ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Я нахожусь в ярко освещенной, прокуренной комнате. Потом появится другая комната, освещенная не столь ярко, с менее густым дымом, но это случится позже и покажется более страшным. А пока пятеро человек в измятой форме сидят вокруг стола; они курят и играют в карты. В помещении жарко, на закрытых окнах висят плотные шторы затемнения, мы играем в покер. У меня на руках отличные карты, но я все равно проигрываю. Ставки принимаются только наличными. Справа от меня сидит игрок с тремя десятками; он забирает купюры, широко улыбаясь белозубым ртом. Я смотрю на остальных четырех мужчин и внезапно понимаю, что все они — мертвецы. Победитель погибнет на пляже через пару недель; остальные умрут позже от рака, алкоголизма, старости; кто-то покончит с собой. Шелестят фунты, однорукий лифтер приносит очередную бутылку шотландского виски, раздобытую на черном рынке, деньги переходят из одних рук в другие.
Я знаю, что проиграю сегодня сто двадцать фунтов и что весь Лондон утонет в дыму пожаров, которые начнутся после бомбежки. Становится темно; я приближаюсь по сосновой аллее к деревянной хижине. Пахнет сырой глиной, виски, больницей. Сквозь щели в стенах домика наружу пробивается свет. Я спускаюсь по ступеням. Смотрю. Двое рослых лысых мужчин в запачканных белых фартуках что-то делают у стола, оживленью разговаривая. Я вижу — они склонились над телом, лежащим на столе; оно очень бледное; они разрезают его на куски. Люди в фартуках, залитые ярким светом, не обращают на меня внимания. Я хочу убежать, но не могу, потому что я и есть тот человек, который лежит на столе; это меня расчленяют ножом на части. Я пытаюсь закричать, но из моего горла не вырывается ни звука. Я парализован ужасом, потом испытываю внезапное облегчение. Все кончено, с радостью думаю я. Дело сделано. Я умер. Мне уже ничто не грозит. Бояться больше нечего. Звенят похоронные колокольчики. На моем лице выступает холодящая влага...
Перезвон колокольчиков сменяется одним пронзительным звонком, дощатая хижина превратилась в гостиничный номер, роса на лице стала кровью. Джек проснулся. Возле кровати звонил телефон. Он попытался нащупать в темноте выключатель лампы. Нашел его, нажал кнопку; зажегся свет. Джек автоматически посмотрел на часы, стоявшие на туалетном столике. Они показывали половину четвертого. Он поднес руку к лицу. Из носа текла кровь. Джек зажал его платком. Охваченный страхом, предчувствием недобрых вестей, которые способен принести ночной звонок, он снял трубку.
Его вызывал Париж. Через несколько мгновений Джек услышал ясный, бодрый, спокойный голос жены. По тону первых слов, произнесенных Элен, он понял, что плохих новостей можно не опасаться. Джек тотчас испытал раздражение из-за того, что жена разбудила его.
— Я пробовала дозвониться до тебя раньше, но телефонистка сказала, что тебя нет в номере. Тебе передали, что я звонила?
— Это же Италия, — заметил Джек. — Здесь ничего не передают.
Она усмехнулась в тысяче миль от Рима. Женщины могут позволить себе не спать хоть до утра, возмущенно подумал Джек, у них в запасе весь следующий день.
— Что-нибудь случилось? — спросил он и отнял платок от носа. Кровотечение заметно ослабло.
— Нет, — ответила она. — Просто я соскучилась и захотела услышать твой голос. Ты только что вошел?
Ведет разведку, с досадой подумал Джек.
— Нет. Я давно сплю.
— Я звонила в час, и мне сказали...
— Я вернулся в пять минут второго. Тебе требуются письменные подтверждения свидетелей?
— Ну, Джек... — Ее голос прозвучал обиженно. — Ты ведь не сердишься на меня за то, что мне захотелось поговорить с тобой?
— Нет, конечно.
Он мысленно поблагодарил судьбу за то, что отель Вероники оказался до отказа заполнен священниками. Если бы Элен не застала его в номере до утра, ему не удалось бы избежать неприятных объяснений.
— Хорошо проводишь время, cheri? — спросила Элен.
— Великолепно.
— Ты один?
Ее тон заметно похолодел.
— Почему ты об этом спрашиваешь? — Сознание собственной сиюминутной безгрешности придавало его голосу воинственные ноты.
— Ты как-то странно это говоришь. Неестественно.
— Ты угадала, — безразличным тоном произнес Джек. — Я не один. У меня тут пять кубинских музыкантов, мы курим марихуану.
— Я всего лишь задала вопрос, — не теряя достоинства, сказала Элен. — Возмущаться не из-за чего.
— Извини. Я еще не совсем проснулся.
— Ладно, можешь спать дальше. Больше я тебе звонить не стану. Если захочешь, позвонишь мне сам.
— Не говори глупости, дорогая. — Джек старался, чтобы в его голосе звучала нежность, которой он не испытывал. — Звони мне в любое время.
— Как идет работа?
— Нормально. Я ужасен, но на гонораре это не отразится.
— Я уверена, что ты вовсе не ужасен, — возразила Элен.
— Мне тут на месте виднее.
— Тебе плохо, cheri?
«Что сказать ей? — подумал Джек. — Да, мне плохо. Мне снилась смерть, мой нос кровоточит, я не получил сегодня комнату в гостинице, где живет моя любовница». Как бы она отреагировала на это?
— Вовсе нет, — ответил он. — С чего ты взяла?
— Просто показалось. По тону твоего голоса. Интуиция...
— Нет. Мне хорошо. Правда.
— Как дела у твоего друга? — спросила Элен. — Мистера Делани? Ты разрешил все его проблемы?
— Не совсем. Он еще не поделился со мной всеми своими проблемами.
— Чего он ждет? — с нетерпением в голосе спросила Элен.
— Не знаю. Психологически удобного момента. Подходящей фазы луны. Падения курса акций. Усиления боли. Не беспокойся — когда придет время, он скажет, что его мучит.
— Поторопи его, — попросила Элен. — Я хочу, чтобы ты побыстрее вернулся домой.
Она замолчала, и Джеку показалось, что жена ждет от него каких-то слов. Затем она продолжила:
— Кое-кто еще тоже ждет твоего возвращения. Это Джо Моррисон. Анна говорит, что с каждым днем он все чаще жалуется на твое отсутствие. Когда я спросила ее, существует ли опасность того, что осенью тебя переведут на новое место, она напустила на себя таинственный вид.
— Почему бы вам, мадам, не заняться вашими делами? — суровым тоном произнес Джек. — Это касается только меня и Джо Моррисона.
— Если тебя пошлют куда-нибудь в джунгли, — Элен повысила голос, — это коснется и меня, верно? Или ты собираешься оставить нас на три-четыре года одних в Париже?
— Извини, — устало произнес Джек.
Упоминание о Джо Моррисоне вернуло ощущение скуки и раздражения, которые в течение последних месяцев вызывала у Джека его работа; он рассердился на Элен, напомнившую ему о ней. Сейчас он обрадовался бы, узнав, что никогда больше не увидит Джо Моррисона; сознание своей зависимости от настроения начальника обострило ощущение несвободы, вызвало внутренний протест.
— Я стал излишне раздражительным. Сделай одолжение — когда позвонишь в следующий раз, не говори о Джо Моррисоне.
— А о чем мне говорить? — враждебно спросила она.
— О нашей счастливой семейной жизни, — сказал он упавшим голосом. — О детях. Кстати, как они?
— У них все в порядке. Только Чарли сегодня перепугался.
— Что случилось? — насторожился Джек.
— Днем он решил, что забеременел.
— Что?
— Решил, что он — беременный. Перед ленчем, когда я — сегодня у прислуги выходной — хозяйничала на кухне, он подошел ко мне и спросил, как рождаются дети. Я была занята и обещала ему все рассказать в другой раз. Но Чарли не отставал; в конце концов мне это надоело — всему свое место и время, — и я сказала: «Они вылезают из ушей...»
— Мудрый ответ, — произнес Джек.
— Он отправился в школу, а вернувшись домой, сказал, что плохо себя чувствует, и лег в постель. Через час я зашла к нему и обнаружила, что он держится за ухо. Оказалось, что последние два дня у него болело ухо — во время купания туда попала вода. Чарли заявил мне: «Я знаю, почему у меня болит ухо. У меня будет ребенок!»
Джек не удержался от смеха. Спустя мгновение Элен тоже рассмеялась.
— Надеюсь, ты его успокоила.
— Я пыталась. Рассказала ему всю правду. Но он, кажется, не поверил. Засыпая сегодня, он держался рукой за ухо.
Джек снова засмеялся:
— Скажи ему — я приеду и все растолкую.
— Я бы хотела, чтобы ты сейчас оказался здесь, — нежно сказала Элен.
— Я тоже. Скоро вернусь, дорогая...
— Береги себя, — прошептала она. — Спи подольше. Не скучай... Sois sage. [42]
— Поцелуй за меня детей. — Джек медленно опустил трубку.
Звонок, напомнивший ему о ее правах на него, об ответственности и проблемах, расстроил Джека. Элен, в отличие от большинства женщин, не получала удовольствия от конфликтов и воздерживалась от споров по принципиальным вопросам. Проницательная, с развитой интуицией, она не стремилась обострять противоречия, проявляла выдержку и терпение в расчете на то, что время сыграет свою целительную роль. Но сейчас недовольство и упрек, прозвучавшие в ее словах, напомнили ему о сцене, спровоцированной Элен год назад и оставившей след в их душах.
Они обедали с Анной и Джо Моррисон в бистро за театром Сары Бернар. Джо несколько перебрал. Моррисон редко пил, но когда с ним это случалось, он становился громогласным и категоричным в суждениях. Он был высок, худ; издали казалось, что ему лет тридцать пять — сорок, но, подойдя поближе, можно было заметить густую сеточку морщин, которая появляется у человека после пятидесяти.
— Джек, — сказал Джо, склонившись над столом и поигрывая бокалом, — ты для меня — загадка. Анна, подтверди — правда, я всегда говорю тебе, что Джек — это загадка?
— Только когда выпьешь лишнего, — невозмутимо заметила Анна.
— Загадка состоит в следующем — почему такой способный человек, как ты, не стремится сделать карьеру. — Моррисон пристально, почти враждебно уставился на Джека. — Посмотри вокруг — все куда-то несутся, карабкаются наверх; люди вдвое глупее тебя строят планы на десять лет вперед... а ты... — Моррисон покачал головой. — Ты напоминаешь мне бегуна, имеющего огромный резерв скорости, но не считающего нужным его использовать. В чем причина?
— Я делаю все, что нахожу нужным, — миролюбиво ответил Джек.
— Не всегда, — возразил Моррисон. — Или чисто механически.
— По-твоему, я не справляюсь со своими обязанностями?
— Конечно, справляешься. Не хуже других. Возможно, даже лучше всех. Но не так хорошо, как мог бы. Вот что я тебе скажу — ты... — Моррисон поискал слово, — ты как бы отсутствуешь. Находишься где-то далеко. Демонстрируешь великолепную технику владения мячом, не слишком волнуясь о том, удастся ли забить гол.
В молодости Моррисон играл в футбол; выпив, он пользовался спортивной терминологией.
— Порою трудно понять, играешь ли ты на поле или сидишь на трибуне, даже не болея за свою команду. В чем дело, Джек, что с тобой?
— Просто я сдержанный человек. — Джек надеялся, что сухой тон его ответа отобьет у Моррисона охоту обсуждать эту тему.
Он заметил, что Элен еле заметно кивала головой, когда Моррисон говорил, и это тоже не понравилось Джеку.
— Молодежь теперь вся такая. Мы не афишируем наши чувства.
— О Господи, — сердито произнес Моррисон и повернулся к Элен: — А что скажешь ты, его жена? Что ты об этом думаешь?
Элен задумчиво посмотрела на Джека. Потом засмеялась:
— Я думаю, Анна права, Джо. Ты слишком много выпил.
— О'кей, о'кей, — покорно произнес Моррисон, откидываясь на спинку стула. — Ты не хочешь говорить об этом. О'кей. Но в один прекрасный день вы вспомните мои слова. Оба.
Вскоре Джек и Элен ушли из ресторана и отправились домой. В автомобиле они напряженно молчали.
Джек лежал в постели, глядя на потолок и размышляя, стоит ему принять снотворное или нет, когда в спальне появилась пришедшая из ванной Элен. Одетая в пижаму, она расчесывала волосы. Джек не посмотрел на жену, даже когда она подошла к кровати и присела на нее, продолжая расчесывать свои короткие темные волосы.
С улицы доносилось непрерывное шуршание автомобильных шин; машины быстро мчались вдоль набережной, шум, издаваемый ими, приглушался закрытыми окнами и шторами.
— Джек, знаешь, а ведь Джо Моррисон прав.
— Насчет чего? — Джек постарался, чтобы его голос прозвучал сонливо, равнодушно.
— Насчет тебя.
В спальне был слышен шорох гребня.
— И не только в отношении работы.
— Ты считаешь? Тогда почему ты не сказала ему о том, что согласна с ним, когда он спросил тебя?
— Ты знаешь, что я никогда бы этого не сделала.
— Знаю.
— Джек. — Элен повернула его голову так, чтобы он смотрел на нее. — Почему ты женился на мне?
— Чтобы освежить в памяти мой французский.
— Джек. — Она коснулась пальцами его лица, на котором оставили свой след бессонница, годы, тревоги. — Не шути. Почему ты женился на мне?
— Посмотри на себя в зеркало. Там найдешь ответ.
Вздохнув, она отняла руку от щеки Джека, прошла к туалетному столику и принялась очищать кожу лица кольдкремом, сидя спиной к мужу. Он задумчиво посмотрел на Элен, обеспокоенный ее вопросом. За семь лет брака Джеку ни разу не доводилось слышать от жены подобных слов. Почему он женился на ней? От одиночества, скуки, нагоняемой на него однообразными, легко предсказуемыми гамбитами, которые неизбежно приходится разыгрывать неженатому мужчине, любящему женщин и общающемуся с ними? Она вызывала у него желание. Это Джек знал точно. Восхищала его. Ее жизненные цели были исключительно реалистичными, здравыми, разумными. Элен была цельной натурой. Хотела любить и быть любимой, хранить верность мужу и требовать того же от него; не испытывала сомнений в истинности счастья, связанного с браком, заботами о муже, детях. К тому же обладала веселым, живым нравом, была приятной в общении, нежной любовницей, с легкостью и невозмутимостью улаживала все бытовые проблемы.
Но если бы в то время, когда он женился на ней, кто-либо спросил его, любит ли он Элен, Джек не смог бы ответить утвердительно, не покривив душой. Возможно, он не смог бы сделать этого и сейчас. Во всяком случае, если бы стал сравнивать свои теперешние чувства с теми, которые он испытывал к Карлотте в первые годы их брака.
Не отходя от туалетного столика и не поворачиваясь к мужу, Элен произнесла:
— Джо сказал, что ты как бы отсутствуешь. И он прав, Джек.
— Я заметил, как ты кивала.
— Извини, но это верно. И когда Джо сказал, что ты находишься где-то далеко, он не ошибся. Иногда мне хочется, чтобы ты не был таким безукоризненно внимательным. Ты словно чувствуешь за собой какую-то вину. Иногда мне кажется, что я шепчу тебе что-то через огромное разделяющее нас поле или толстую стену и ты не слышишь меня.
Джек сомкнул веки, не желая видеть стройную гладкую спину, поднятые прелестные руки, маленькую хорошенькую головку...
— В чем дело, Джек? — тихо спросила она, повторяя слова Джо Моррисона. — Может, причина во мне? Я могу тебе помочь?
Он не открыл глаз. Ее вины тут не было, она ничем не могла ему помочь, поэтому Джек безжалостно произнес:
— Дай мне снотворное, пожалуйста.
— Пошел ты к черту, — вырвалось у нее.
Джек вздохнул, лежа на римской кровати и думая о близких ему людях, надежды которых он не оправдал. В темноте он чувствовал себя лучше. Потянувшись рукой к выключателю лампы, он услышал шаги в коридоре — кто-то приближался к его двери. Джеку показалось, что человек остановился возле нее. Брезач, подумал он и замер в напряжении. Но потом человек зашагал по коридору дальше, и все стихло.
Джек выждал несколько секунд, не выключая лампы. Он заметил лежащий на столе пухлый конверт, оставленный ему Деспьером, и решил утром прежде всего спрятать его в надежное место. Сейчас от сна его уже не осталось и следа; Джеку захотелось почитать, но в номере не было иной книги, кроме томика Катулла; сейчас Катулл не соответствовал его настроению.
Решительным движением он погасил свет. Ему надо было встать без четверти семь с достаточно свежей головой, чтобы хотя бы попытаться выполнять указания Делани при дублировании. Чем бы он ни занимался эти две недели, во что бы ни оказался втянут, будь то любовь, взаимные упреки или убийство, он должен честно отработать пять тысяч долларов. «У меня буржуазное чувство коммерческой честности, — подумал Джек, подтрунивая над собой. — Честность превыше всего».
Он заставил себя закрыть глаза ради Делани. Но никогда Джек не был так далек от сна. Он вспомнил голос Элен, звучавший в трубке, — едва уловимый, ненавязчивый, восхитительный французский акцент придавал английским словам очаровательное своеобразие. Ее голос был совсем не похож на тот, которым произнесли: «Я устала от мужчин, которые спят со мной и говорят мне о том, как сильно они любят своих жен». Лежа в темноте без сна, Джек думал об Элен; она, верно, тоже не спала сейчас в тысяче миль от него, тоже беспокоилась, думала о нем; не без помощи телепатии, присущей всем любящим людям, она, несомненно, догадалась о том, что с ним что-то происходит. Он увидел миниатюрную, прелестную, теплую Элен, она лежала в своей мальчишеской пижаме на кровати, накрутив волосы на бигуди (она всегда занималась своей внешностью в его отсутствие). Связанная с мужем тысячью незримых нитей и уз, она размышляла о нем, одновременно прислушиваясь, не донесется ли шорох из детской. Надежная, умелая, бдительная, Элен находилась в центре семейной паутины, тревожась, защищая, любя, радуясь, молясь о том, чтобы муж вернулся здоровым, невредимым и любящим... Если бы Джек лежал в кровати рядом с ней, он не играл бы в этот страшный покер, не видел бы лысых мужчин в фартуках, занятых зловещим делом.
Джек поднес к носу платок. Кровотечение, похоже, остановилось. Вспомнив свой сон, он подумал: «Как мудро со стороны жен молиться в тягостные часы, что начинаются после полуночи».
Не желая разгадывать значение сна, в котором его бывшие друзья играли в карты, а на столе лежало его собственное тело, Джек заставил себя подумать о сыне, спавшем в эту ночь, подложив руку под тревожащее его ухо. Он улыбнулся; детская ручка отвела смерть в сторону. Джек вспомнил, как однажды зимним вечером, вернувшись с работы, застал сына вытирающимся после ванны. Он поцеловал влажную головку, задумчиво наблюдая за сыном, небрежно прикладывающим полотенце к своему маленькому, но крепкому тельцу. Внезапно мальчик повернулся к отцу; на лице ребенка появилась улыбка заговорщика.
— Папа, — сказал он, коснувшись пальцем кончика своего пениса, и горделиво, отчетливо добавил: — Это я.
В пятилетнем возрасте мы впитываем мудрость из воздуха, мыслители всех веков шепчут нам на ухо откровения.
Лежа без сна в темной комнате, заполненной призраками бывших товарищей по оружию, Джек коснулся себя.
— Это я, — с улыбкой прошептал он, повторяя вслед за сыном магическое мужское заклинание; Джек прогонял силы тьмы с помощью тайной церемонии, изобретенной его сыном, наивным и мудрым одновременно; он пытался избавиться от тягостных, мучительных видений, хлынувших из прошлого.
Но таинство не сработало. Он закрыл глаза, но сон не приходил; Джек уже был во власти воспоминаний, навеянных сном и беседой с Вероникой...
Наша армия тоже понесла кое-какие потери...
Ферма горела. Она была построена из камня, но в ней находилось на удивление много вещей, вспыхнувших после того, как в дом угодил снаряд. Джек спал на полу кухни; взрывной волной его выбросило из комнаты; нога у него была сломана. На голове тлело одеяло. Люди, находившиеся с ним на ферме, куда-то исчезли. Им повезло больше, чем ему. Они растворились в темноте. В сумятице они забыли о нем, а потом приблизиться к зданию было уже невозможно.
Пять часов ушло на то, чтобы доползти до окна. Он многократно терял сознание, ощущал запах собственных обожженных волос и кожи; нога вывернулась окончательно. Он задыхался в дыму. Одно он знал точно: умирать он не хотел. Цепляясь ногтями здоровой руки за доски пола, он добрался до окна; потянувшись, выглянул наружу. Пространство перед домом периодически обстреливали из пулемета, но кто-то заметил его голову, появившуюся в оконной раме, пришел за ним и забрал его. Дальше в памяти был провал: когда его вытаскивали из окна, он снова потерял сознание. Ему кололи морфий; следующие несколько недель он провалялся в полузабытьи, словно окутанный какой-то мутной пеленой; он не понимал, жив он или мертв. Он так и не узнал, кто его спас. Затем — два года в госпиталях, восемнадцать операций. «Эта рука функционировать не будет», — сказал молодой врач. Ему принесли огромный букет цветов, заказанный Карлоттой по телеграфу... Больше она ничего не сделала...
К нам, о Гимен, Гименей! Хвала Гименею, Гимену!
Свадьба была необычной. Наверно, подобные церемонии случались во всех частях света, но все же присутствующих не покидало ощущение, что было в ней нечто специфически голливудское, что только в Голливуде двести пятьдесят человек могут собраться для того, чтобы отпраздновать заключение союза между бывшими супругами, которые когда-то развелись, вступили в другие браки, затем расстались со своими новыми супругами и снова связали себя брачными узами. В любом ином месте виновники торжества, наверно, отправились бы в какой-нибудь тихий провинциальный городок и зарегистрировались бы (как оказалось, снова не навечно) в присутствии пары свидетелей. Но такой вариант не годился для Голливуда тридцать седьмого года. Среди двух с половиной сотен гостей, приглашенных на свадьбу, были фотографы, журналисты, руководители студий, а также члены съемочных групп двух картин, в которых снимались молодожены. Невеста появилась в роскошном белом платье, подаренном ей костюмерным отделом одной из кинокомпаний.
Свадьбу сыграли в доме Делани. В ту пору он был женат на женщине, которая впоследствии стреляла в него из охотничьего ружья. Красивая, легкомысленная, она оказалась, к счастью, плохим стрелком. Делани, не любивший торжеств, устраивал их, чтобы сохранять мир в семье. Морис провел почти весь вечер в баре за картами.
Отис Кэррингтон, жених с изысканными манерами и глубоким грудным голосом, сидел, улыбаясь, между двумя своими бывшими женами на ступенях широкой, колониального стиля лестницы. Он пил черный кофе из большой чашки, воздерживаясь от алкоголя. Ни разу не взглянув на женщину, на которой он женился днем, Кэррингтон говорил своим прежним супругам: «Мне не нужен психоаналитик. Я сам знаю, что со мной. До тридцати лет я был влюблен в свою сестру. Осознав это, я почувствовал, что могу спиться. Однажды утром, проснувшись в Неаполе, я понял, что мне необходимо полностью отказаться от спиртного. За две недели до этого я отправился на вечеринку в Чикаго. Поднявшись с кровати в Неаполе, я увидел, что нахожусь в шикарном гостиничном номере, заставленном цветами и пустыми бутылками из-под виски. Я не помнил, как пересек океан, как добрался до Дирборнского вокзала».
В трезвом состоянии он был любезен и остроумен. Джек не знал второго человека со столь безукоризненными манерами. Напившись, Отис крушил гостиные, срывал приемы, премьеры, губил браки и многолетнюю дружбу. В последние годы, чувствуя после нескольких месяцев воздержания, что кризис близок, он нанимал могучего санитара, который, сопровождая Кэррингтона повсюду, не позволял ему слишком расходиться. Порой случалось, что санитар не отходил от актера две недели кряду. Кэррингтон принадлежал к той старой, уже тогда вымиравшей породе актеров, которые в жизни вели себя как на сцене. Раскованные, броско одевающиеся, галантные, они отличались непредсказуемостью поведения, тягой к эффектному поступку. В апреле 1917 года, в первый день войны, Кэррингтон вышел из нью-йоркского театра, только что сыграв главную роль в спектакле; он воткнул цветок в петлицу своего дорогого костюма и, помахивая тросточкой, отправился в ближайший вербовочный пункт, где заявил о своем желании вступить в армию. Родившийся в другую эпоху, воспитанный в ином, менее романтическом духе, Джек безмерно восхищался Кэррингтоном, и когда началась его война (это произошло в середине съемок), Делани и агенту Джека пришлось проявить изрядное красноречие, чтобы удержать его от аналогичного поступка.
Однажды на съемочной площадке подошедший к Кэррингтону юный актер попросил его выразить одной фразой секрет их профессии. Кэррингтон изобразил на лице глубокую задумчивость, потер крупный нос и произнес: «Радуйтесь жизни, молодой человек, радуйтесь жизни».
В тот же вечер после свадьбы Кэррингтон рассказывал о том, как они с женой отмечали свое первое бракосочетание.
«Это было еще более грандиозное мероприятие, чем сегодняшнее, — говорил он своим бывшим супругам, отпивая кофе. — Проходя мимо дивана, на котором сидели моя жена и английский граф, с которым я познакомился в Лондоне, я услышал, как она заявляет своему собеседнику: „Конечно, мой дорогой, всем известно, что Кэррингтон — импотент"». — Он добродушно усмехнулся, вспоминая былые празднества.
Джек большую часть вечера провел в спорах. Так получалось, что, приехав в Голливуд двумя месяцами ранее, он почти каждый вечер с кем-то спорил. Темы были разные, но в то время чаще всего в гостиных Беверли-Хиллз говорили о достоинствах и недостатках кинофильмов и о гражданской войне в Испании. «Сделать здесь хороший фильм, — заявил переполненный новыми впечатлениями Джек, снимавшийся в одной из главных ролей, — можно лишь по чистой случайности. Слово правды в кино — редчайшее событие. Нельзя обидеть никого — ни бедных, ни богатых, ни трудяг, ни буржуа, ни евреев, ни аристократов, ни матерей, ни священников, ни политиков, ни бизнесменов, ни англичан, ни немцев, ни турков — ну абсолютно никого. Над воротами каждой студии светится девиз: „ТРУСОСТЬ". Никто не произносит тут ни одного слова правды. Я еще не встретил здесь ни одного человека старше двадцати лет, который не развелся бы по меньшей мере дважды, однако каждый фильм — это поэма, прославляющая постоянство и верность. Все люди, живущие между побережьем Тихого океана и Лос-Анджелесом, тратят столько сил на добывание долларов, что дышать успевают только по субботам, однако если верить создателям фильмов, быть счастливым можно, лишь получая не более двенадцати долларов в неделю. Девяносто процентов людей настолько боятся Гитлера, что он снится им в кошмарах каждую ночь, однако в кинокартинах не найти и намека на опасность, исходящую от него. В баре Ласи о Франко говорят с большей ненавистью, чем в траншеях возле Мадрида, но стоит кому-нибудь заявить о своем намерении снять фильм об этой войне, как тотчас появляется письмо от одного из последователей отца Кофлина, и все планы рушатся. Господи, в этой комнате полно людей, всю жизнь нарушавших законы, лгавших, прелюбодействовавших с чужими женами; все они сейчас богаты, счастливы и пользуются уважением сограждан; они снимают фильмы, в которых преступник всегда наказан, а девушка, переспавшая со своим женихом до свадьбы, умирает или кончает жизнь в бесчестии. Впервые в истории любого из искусств столько средств, таланта, техники было собрано в одном месте ради того, чтобы множить ложь... создавать исключительно дорогую маску... большую счастливую американскую улыбку...»
Стоя посреди комнаты в новом смокинге, сшитом у портного по рекомендации Делани, окруженный красивыми, загорелыми, благоухающими, элегантно одетыми людьми, чьи имена не сходили с газетных полос, Джек радостно разглагольствовал; возбужденный выпитым шампанским, он самоуверенно критиковал законы, не боясь последствий. Он испытывал высокомерное чувство собственного превосходства над этими известными деятелями кино, которые слушали его; кто-то молча соглашался с ним, на чьих-то щеках вспыхивал румянец негодования. Джек сознавал, что они алчны и готовы на все, лишь бы нажить или сохранить состояние; у него же не было ни счета в банке, ни ценных бумаг, ни облигаций, ни недвижимости, ни акций нефтедобывающих компаний; обладая лишь молодостью и талантом, он с пренебрежением относился к богатству. С таким чувством абсолютно здоровый человек проходит по коридорам больницы, где лежат неизлечимо больные, с жадностью поглощающие яды, которые постепенно убивают их. Зная, что новый смокинг великолепно сидит на нем, он продолжал говорить и вдруг заметил среди гостей Карлотту Ли; она наблюдала за ним с еле заметной улыбкой на губах, говорившей о том, что актриса долго оценивала его и наконец сегодня пришла к заключению, которое должно обрадовать Джека. Днем он поцеловал ее — правда, случилось это на съемочной площадке, в присутствии сотни актеров, статистов, рабочих; за время съемок он обменялся с ней всего лишь несколькими фразами, не считая предусмотренных сценарием; однако сегодня он решил, что влюблен в нее, и тайная улыбка Карлотты, мелькнувшая в водовороте торжества, поведала ему о том, что его чувство не осталось безответным.
О таком вечере Джек мечтал давно, еще будучи неуверенным, сомневающимся в себе юношей, и теперь извлекал из него максимальное удовольствие. Здесь царила раскованность; все дискуссии были всего лишь словесными упражнениями; он знал, что скоро подобные приемы наскучат ему, но сегодня Джек наслаждался новой для него обстановкой.
— Послушайте, — сказал человек по фамилии Бернстейн, поставивший десятки фильмов; он слушал Джека, сердито поджав губы. — Вы ведь снимаетесь сейчас у Делани, верно?
— Да, — Джек кивнул в сторону подошедшего к ним Делани.
— Я полагаю, это исключительный случай, — с усмешкой произнес Бернстейн. — Вы-то, конечно, создаете Произведение Искусства.
— Вовсе нет. Это такая же мура, как и все остальное.
Все притихли, потом Делани рассмеялся; спустя мгновение рассмеялись и все остальные, за исключением Бернстейна. Делани похлопал Джека по плечу:
— Парень тут всего два месяца, поэтому его иногда заносит. Скоро он станет терпимее.
— Что вы здесь делаете при таком отношении к Голливуду? — воинственно спросил Бернстейн. — Почему бы вам вместе с прочими коммунистами не отправиться обратно на Бродвей?
— Я намерен разбогатеть здесь, мистер Бернстейн, — поддразнивая собеседника и получая удовольствие от его гнева, ответил Джек. — А потом, через год-другой, куплю ранчо, буду разводить коров и выращивать орхидеи вдали от людских глаз.
— Ранчо, — сказал мистер Бернстейн. — Это нечто новое. Я подожду, когда выйдет ваш фильм, молодой человек. Возможно, вам придется скрыться от людских глаз гораздо раньше, чем вы намереваетесь.
Мистер Бернстейн — оскорбленный, разгневанный патриот волшебной и прекрасной страны, создаваемой ежедневно на съемочных площадках его любимого царства, — медленно отошел в сторону.
— Сколько тебе лет, Джек? — спросил Делани.
— Двадцать два.
— Прекрасный возраст. Сейчас ты можешь так говорить. Но постарайся успеть выговориться. Когда тебе стукнет двадцать три, тебе не простят подобных речей.
Усмехнувшись, невысокий, сильный, мудрый Делани удалился, чтобы разобраться с инцидентом — ему сообщили, что один из гостей, английский поэт, перебрал мятного ликера и стал приставать к дворецкому.
Карлотта улыбнулась уже более открыто; в ее удлиненных зеленых глазах все явственнее читалась благосклонность к Джеку.
— По-моему, вечеринка близится к завершению, — сказала Карлотта. — Я собираюсь уходить. Ты меня не проводишь?
— С удовольствием, — ответил Джек.
У меня были своеобразные представления о чести. В те годы.
Другой вечер. Они снимали в павильоне. Работа закончилась в двенадцатом часу, и Карлотта снова предложила Джеку отвезти ее домой, поскольку автомобиль актрисы после очередной аварии находился в мастерской — меняли облицовку радиатора. Она неплохо водила машину, но увлекалась скоростью и часто попадала в аварии.
Они молча ехали по извилистой дороге вдоль каньона в сторону дома Карлотты. Время от времени собака актрисы, громадная бельгийская овчарка, которую она брала с собой повсюду, тянулась с заднего сиденья к хозяйке, лизала ее шею; Карлотта отталкивала пса, произнося: «Черт возьми, Бастер, веди себя прилично». Тяжело, обиженно дыша, пес отодвигался назад; из его раскрытой пасти свисал длинный язык. Спустя некоторое время он снова тянулся к хозяйке.
Карлотта иногда посматривала на сидящего за рулем Джека; ее треугольное бледное лицо выражало насмешливый интерес. Он уже в который раз с вечера свадьбы замечал этот ее взгляд — волнующий, ироничный, дразнящий. Джек старался не оставаться с ней наедине и не смотреть на нее слишком часто, но неиссякаемая энергия Карлотты, чувственность ее лица, оттенок недоброго любопытства на нем действовали на его воображение, преследовали в сновидениях.
— Ты прекрасно владеешь собой, да? — сказала Карлотта. — Не то что ласковый, простодушный старина Бастер.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Джек, прекрасно понявший смысл сказанного ею.
— Ничего, — смеясь, произнесла Карлотта. — Ничего. Ты, случайно, живя на востоке, не дал обет грубить киноактрисам?
— Если я был груб, — церемонно произнес Джек, — прошу меня извинить.
— Ты хамишь тут всем, за это тебя и любят. Это город мазохистов. Чем сильнее их бьешь, тем большее удовольствие они получают. Не меняйся. Это убило бы твой шарм.
Ее манера говорить отличалась своеобразием. Она выросла в Техасе, в семье бурового мастера, у которого было семеро детей; отец Карлотты постоянно переезжал со своими домочадцами, словно цыган, с места на место в пределах штата, но в ее речи не было даже следа техасского акцента. Она два года, не жалея сил, занималась с учителем дикции и теперь говорила, как выпускница лучшей английской школы; Карлотта сознательно не употребляла некоторые разговорные обороты, подхваченные уже здесь. У нее был низкий голос, который она умело использовала; многие мужчины, знавшие Карлотту, испытывали в ее присутствии смущение, неловкость, потому что она была способна в любой момент высмеять глупость или претенциозность. На съемочной площадке Карлотта была собранной, самолюбивой, жестко отстаивающей свои интересы, уверенной в собственном таланте, беспощадной к любой неискренности. Делани сразу сказал Джеку: «Я постараюсь защитить тебя от нее, но ты и сам не зевай. Если на мгновение расслабишься, она тотчас задавит тебя в кадре».
В ее теле, вызывавшем всеобщее восхищение, казавшемся нежным и девичьим, таилась сила атлета; Карлотта не жалела времени на занятия спортом, она следила за своим питанием, как чемпион по боксу в тяжелом весе, готовящийся к соревнованиям. Карлотте исполнилось двадцать шесть, но она могла выглядеть на восемнадцать, когда ей это было надо. Она много читала, правда, без всякой системы; наверно, стремилась возместить недостаток образования, которое получила дочь постоянно переезжающего с места на место буровика, и ее мозг был хранилищем всевозможных сведений и цитат из самых неожиданных источников. Всецело поглощенная своей карьерой, она не выходила замуж.
Все это Джек узнал о ней за последние несколько недель. Сначала он восхищался Карлоттой, потом желал ее и наконец влюбился. Но до сих пор не признавался ей в своих чувствах.
Забравшись по серпантину на вершину холма, Джек остановил машину возле большого белого дома. Собака заскулила, спеша выбраться наружу.
— О Господи, — сказала Карлотта.
— Что случилось?
Карлотта указала на «кадиллак», стоявший у входной двери:
— Ко мне пожаловал гость. Тебе нельзя заходить.
— Почему?
— Гость будет ревновать.
— Кто он?
Джек уставился на автомобиль. Он был новым, огромным, дорогим, но в Голливуде это ничего не значило. Его хозяин мог наскрести тысячу долларов на первый взнос, надеясь разбогатеть в будущем. Сам Джек ездил на подержанном «форде» с откидным верхом.
— Кто он? — повторила Карлотта. — Неужели ты не знаешь?
— Нет.
— Ты меня разыгрываешь?
— Я обязан знать?
Карлотта рассмеялась; потянувшись к Джеку, она поцеловала его в лоб, как ребенка:
— Это за твою беспрецедентную для Голливуда неосведомленность.
Она назвала ему фамилию владельца «кадиллака». Это был Катцер, хозяин студии, человек, придумавший Джеку псевдоним.
— Я полагала, это всем известно, — небрежно сказала Карлотта. — Это началось еще за два дня до потопа.
— Он тебе нравится?
— Перестань скулить, Бастер, — обратилась она к собаке.
Катцер, разменявший пятый десяток, был женат и имел двоих детей. У него была лысина и маленькое брюшко; Катцер, как и любой другой человек его положения, внушал страх сотрудникам студии и служил для них объектом насмешек. Джек ни разу не слышал, чтобы кто-то заявил о своей симпатии к Катцеру.
— Скажем так, — произнесла Карлотта, — сегодня он мне не нравится.
— Передай ему от меня привет, — упавшим голосом сказал Джек. — Спокойной ночи.
Карлотта приоткрыла дверцу машины, потом решительно захлопнула ее.
— Я не хочу сейчас с тобой расставаться, — заявила она. — Хочу еще выпить.
— Я уверен, там найдется бутылка. — Джек указал на дом.
— Я хочу выпить с тобой, только с тобой. И не будь ты таким надутым. Успокойся, Бастер, не шуми. — Она прильнула к плечу Джека. — Ты знаешь, как отсюда доехать до твоего дома?
Джек бросил взгляд на таинственное, темное здание с зашторенными окнами и дорогим сверкающим лимузином у подъезда. Затем он завел мотор «форда», быстро развернулся и поехал вниз по извилистой горной дороге.
Джек снимал квартиру в доме, расположенном в бедном районе Беверли-Хиллз, куда не доходил трамвай. Здание имело форму каре, войти в подъезд можно было через арку и густой сад, разбитый во дворе и рассеченный надвое гравийной дорожкой.
Остановив машину, Джек увидел владельца соседнего коттеджа. Человек в подтяжках и рубашке с короткими рукавами сосредоточенно поливал лужайку. Трудно было сказать, что выгнало его в столь поздний час на улицу — любовь к земле или отвращение к домашнему очагу.
Они вышли из «форда» и вслед за принюхивающейся собакой направились через арку во внутренний сад. Кое-где еще горел свет, а из одного окна доносились звуки радио — эстрадный ансамбль исполнял «Валенсию». Воздух был насыщен ароматом лавровых деревьев и эвкалиптов. Джек открыл дверь своей квартиры и тотчас зашторил окно, чтобы соседи не увидели их. Прежде чем он повернул выключатель, Карлотта преградила ему путь к стене и замерла в темноте.
— Ну, сейчас, — сказала она.
Он обнял ее и поцеловал. Держа Карлотту в своих объятиях, он почувствовал, что собака обнюхивает его брюки. Он вспомнил, как они целовались на съемочной площадке, под лучами прожекторов, перед объективом камеры, в присутствии других актеров, парикмахеров, звукооператоров, электриков. Теперь число наблюдателей сократилось до одного. Эта мысль помешала ему получить максимальное удовольствие от объятий.
Словно угадав, о чем думает Джек, Карлотта оттолкнула его и коснулась кнопки на стене. Раздалось жужжание, но свет не зажегся.
— Что это? — с недоумением спросила она.
— Отопление.
Джек включил лампу, стоящую на столе возле окна, и, к своему удивлению, обнаружил, что у Карлотты на лице остался грим. Он забыл, что они оба только что снимались. Джек посмотрел на себя в зеркало. Его лицо было восковым, безжизненным, лишенным признаков какого-либо определенного возраста. Отвернувшись от зеркала, он увидел, что Карлотта уже забралась на диван с ногами; она подтянула колени к подбородку.
— Ты обещал, что дашь мне выпить.
Он ушел на кухню и принес оттуда бутылку виски, два бокала и графин с водой. Актриса обвела неодобрительным взглядом комнату; Джек понял, какой неуютной, голой показалась она Карлотте.
— Когда люди приезжают сюда впервые, — сказала Карлотта, — они всегда выбирают для себя подобное жилье. Я называю его антидомом.
Она взяла протянутый Джеком бокал и сделала глоток.
— Мы оба выглядим ужасно. — Карлотта коснулась грима, лежащего на ее лице. — Правда, Бастер?
Собака вытянулась в центре комнаты и смотрела на хозяйку; услышав свое имя, Бастер вильнул хвостом.
— Люди боятся пускать здесь корни, — быстро проговорила Карлотта.
Впервые с момента их знакомства Джек видел ее неуверенной, смущенной.
— Они чувствуют, что под яркой, зеленой травой находится нездоровая почва, а вода в здешних бассейнах отравлена.
Она указала рукой, сжимающей бокал, на темную резную мебель, на зеленоватые оштукатуренные стены.
— Этой квартире требуется женская рука. — Карлотта изучающе, неуверенно посмотрела на Джека; ее светлые волосы свободно падали на плечи, обтянутые свитером. — Похоже, она к ней еще не прикасалась.
— Да, — подтвердил Джек, сидя на краю стола лицом к Карлотте и не приближаясь к ней.
— Так мне и говорили. А еще — что ты женат. Это правда?
— Да, — ответил он.
— Теперь вас ловят совсем молодыми, — заметила она.
Карлотта повернулась на диване, вытянув ноги; ступни ее касались друг друга. Она оперлась спиной о валик, держа бокал обеими руками.
— Где она — твоя жена?
— В Нью-Йорке.
— Почему она отпустила тебя одного?
— Она не смогла поехать со мной из-за своей работы.
— Чем она занимается?
— У нее роль в пьесе. Она актриса.
— О Господи! Но спектакль идет не бесконечно. Ты предлагал ей отправиться сюда с тобой?
— Предлагал.
— Она отказалась?
— Да.
— Как ее фамилия — ну, театральный псевдоним?
— Ты его никогда не слышала. У моей жены крошечная роль.
— И тем не менее она не захотела ехать?..
— Да. Она очень серьезно относится к своему делу.
— Она хорошая актриса?
— Нет, очень плохая.
— Ей это известно?
Джек покачал головой:
— Нет, она считает себя американской Сарой Бернар.
Карлотта зло усмехнулась:
— Ты говорил ей об этом?
— О чем?
— Ну, что она — плохая актриса?
— Да, — ответил Джек.
— И как она отреагировала на твои слова?
На лице Джека появилась горькая улыбка.
— Она сказала, что я завидую ее таланту, что мне не понять ее преданности искусству, что я гожусь только для Голливуда.
— Дай ей Бог счастья в нью-йоркском театре. — Допив виски, Карлотта опустила бокал на пол; собака подошла к нему и обнюхала. — Как долго, по-твоему, продлится ваш брак?
— Два дня, — ответил Джек.
— Когда ты это решил?
— Этим вечером.
— Почему?
— Ты сама знаешь.
Карлотта поднялась, подошла к Джеку и встала перед ним, легонько коснулась рукой его плеча; ее живые огромные зеленые глаза горели на фоне маски из грима.
— Знаешь, я приехала сюда не только ради того, чтобы выпить.
— Знаю. Сейчас я отвезу тебя домой.
Она отступила на шаг; нахмурившись, посмотрела на Джека, пытаясь понять его.
— Что ты за человек? — произнесла она.
— Послушай меня. Сейчас я отвезу тебя домой, а завтра слетаю в Нью-Йорк и сообщу жене о том, что влюбился и хочу немедленно развестись с ней, чтобы жениться на тебе.
Карлотта, обхватив голову Джека своими ладонями, заглянула ему в глаза, словно пытаясь понять, шутит он или говорит серьезно.
— Я бедная, простодушная, испорченная маленькая девочка, которая очень рано оказалась в Голливуде, Джек, — лукаво улыбаясь, сказала она. — Я просто теряюсь перед таким благородством и чистотой...
Он нежно поцеловал ее, как бы скрепляя печатью свои слова.
— А я? — сказала Карлотта. — Чем мне заняться в твое отсутствие?
— Прогони прочь от своего дома всех владельцев «кадиллаков». Раз и навсегда.
Карлотта сделала шаг назад, неуверенно коснулась пальцами своих губ:
— Что ж, это будет по-честному.
Когда они садились с Бастером в машину, человек в подтяжках все еще поливал лужайку. Он посмотрел на них через улицу; Джеку показалось, что мужчина удивлен тем, как скоро они вернулись.
— Скажи мне, сколько раз ты был женат?
— Три раза.
— О Господи.
— Вот именно. О Господи.
— Это нормально для Америки?
— Не совсем.
— Ты безжалостен, — сказала Джулия.
Она стояла посреди комнаты с искаженным ненавистью лицом, раздвинув ноги на ширину плеч. Они жили на Двенадцатой Западной улице в старом доме с высокими потолками и облезлыми стенами. После его отъезда Джулия повесила новые кричащие оранжевые шторы и купила уродливую мебель с трубчатыми ножками. В детской надрывался малыш, но на него никто не обращал внимания.
— Ты твердишь о том, что хочешь прожить жизнь честно, — громко говорила она. — Не обманывай себя. Честность тут ни при чем. Просто ты тщеславен и бессердечен. Чтобы добиться своего, ты готов перешагнуть через кого угодно. Через жену. Через ребенка. Любой другой на твоем месте тихонько развлекся бы в Голливуде с этой старой шлюхой, а потом вернулся бы домой к жене. Тебе же понадобилось предупредить меня заранее. Господи, что ты за человек? Новоявленный сэр Галахад.
Ее голос звучал резко и язвительно, но даже у себя дома, отстаивая то, что считала своими законными супружескими правами, она говорила, как бездарная актриса в плохой пьесе, старающаяся казаться резкой и язвительной. В эту минуту он не мог представить себе, что когда-то был уверен в своей любви к Джулии, находил ее красивой, что когда-то они лежали в постели, охваченные нежностью и желанием.
— Не стоит говорить об этом, — сказал он, стараясь придать своему голосу мягкое, успокаивающее звучание. — Я не могу поступить иначе. Я буду содержать тебя и ребенка...
— Не нужны нам твои деньги. — Джулия заплакала.
Ее фальшивые всхлипывания, с легкостью брызнувшие слезы вызывали у Джека не жалость, а раздражение.
— Я не дам тебе развода, — произнесла она сквозь всхлипывания. — Я останусь здесь, буду заниматься ребенком и ждать, когда ты образумишься и приедешь назад. Мне тоже надо побыть одной. Без тебя никто не будет лишать меня веры в себя, смеяться надо мной, говорить о моей бездарности, о том, что я ничего не добьюсь на сцене. Когда ты вернешься, я буду одной из самых известных театральных актрис, мне будут предлагать лучшие женские роли на Бродвее... Когда ты вернешься, я смогу содержать тебя.
Джек вздохнул. Он не собирался возвращаться сюда. Она была упорна и энергична, как Карлотта, но сочетание этих качеств с талантом делало Карлотту неотразимой, в то время как честолюбие, работоспособность, самоуверенность Джулии подчеркивали ее глупость.
— Джулия, — сказал он, не в силах удержаться от предостережения, — если у тебя есть разум, ты оставишь сцену. Сделай это как можно скорее, найди порядочного человека и посвяти себя обязанностям жены и матери.
— Вон! — закричала она. — Вон из моего дома.
Он прошел в детскую и посмотрел на сына, плакавшего в своей кроватке. «Я попрошу у тебя прощения, когда ты немного подрастешь», — подумал Джек. Сейчас он испытывал лишь сожаление по поводу того, что у них родился ребенок. Не поцеловав маленькое влажное красное личико ребенка, он покинул квартиру. Через два часа Джек уже летел обратно в Калифорнию.
— Volare, oh, oh.. cantare, oh, oh, oh...
Летнее утро в саду возле белого дома на вершине холма. На столе под тентом в полоску накрыт завтрак. Две аккуратные пачки писем, адресованных мистеру Джеймсу Роялу и мисс Карлотте Ли, лежат рядом с большими бокалами апельсинового сока, сценариями, конвертами из бюро вырезок; картина напоминает начало первого акта в пьесе: занавес уже раздвинут, и актеры ждут за кулисами, когда стихнут аплодисменты, адресованные художнику. Голубое небо Калифорнии, в те годы еще не загрязненное смогом; на заднем плане — заросли авокадо с густой блестящей листвой и тяжелыми круглыми плодами. Сад, нарисованный ребенком. Запах апельсинов и лимонов. Солнечное утро. Десять часов.
Вот они уже сидят напротив друг друга, Карлотта — в облегающих брюках и голубой мужской рубашке с закатанными до локтя рукавами, Джек — в сандалиях, джинсах и футболке. Между ними цветы в вазе, корреспонденция, поступившая из внешнего мира, до которого им нет дела.
Джек наблюдает, как Карлотта быстрыми и точными движениями вскрывает конверт, солнечные лучи, пройдя сквозь полосатый тент, окрашивают ее руки в розовый цвет. Посмотрев на Джека, Карлотта спрашивает:
— О чем ты думаешь?
— О сегодняшней ночи и о всех других наших ночах, о твоей красоте, о том, как я опутан, повязан, поглощен, пленен греховным сексом, как замечательно, что ты сбежала от нефтяных вышек, а я — от отцовских сушеных слив.
Карлотта засмеялась:
— Не вздумай уверять меня, будто это экспромт.
— Конечно, нет. Я сочинил это во время бритья, чтобы прочитать перед завтраком вместо молитвы. Тебе не понравилось?
— Продолжай, — попросила она.
— Завтра утром. Мои литературные способности на сегодня иссякли. О, проклятие, опять этот пес!
Бастер вернулся с утренней прогулки из зарослей кустарника. Он заплясал вокруг стола, приветствуя хозяйку истерическим лаем.
— Замолчи, Бастер. — Карлотта кинула собаке гренок, намазанный джемом.
Когда Джек перебрался к Карлотте, пес стал предметом первого спора.
— Выгоняй его из комнаты, — попросил Джек, — когда мы занимаемся любовью.
— Бастер — очень спокойный пес, — возразила Карлотта.
— Какой бы он ни был спокойный, он лежит тут, дышит и наблюдает за нами. Я не могу избавиться от чувства, что он вот-вот укусит меня за задницу или продаст подробности газетчикам.
— Он умеет хранить тайны. Если мы запрем Бастера, он обидится.
— В конце концов я стану импотентом.
— Ну, тогда надо его убрать. Но он будет лаять.
— Пусть лает.
Бастер не унимался две ночи, но потом неохотно сдался. Теперь он лежал в коридоре под дверью и громко дышал.
— Какой чудесный день! — Карлотта посмотрела на безоблачное небо. — Знаешь, что я предлагаю? Давай сядем в машину и поедем вдвоем купаться, а ленч устроим на берегу океана...
Зазвонил телефон, соединенный с розеткой длинным шнуром.
— Твоя очередь. — Карлотта состроила гримасу.
Джек снял трубку.
— Алло, — произнес он.
— Прочитал новый сценарий?
Это был Делани, никогда не тративший времени на пустые вводные фразы.
— Прочитал.
— Ну?
— Это ужасно оригинально, дорогой, — сказал Джек, растягивая слова.
— Мерзавец, — беззлобно произнес Делани. — Что ты понимаешь? Ты разбираешься в литературе, как мясник. Ты неотесанный жлоб, не видящий разницы между Генри Джеймсом и «Вечеринкой с дамами в турецкой бане». По-твоему, лучший фильм из всех когда-либо снятых — это «Ребекка с фермы Саннибрук». Твоему отцу следовало отправить тебя на десятилетние курсы для умственно отсталых детей.
Улыбающийся Джек устроился поудобнее в кресле.
— Ты еще не превратился в ходячий скелет, специалист по сушке слив? — спросил Делани.
— Откинувшись на спинку кресла, я пью апельсиновый сок в обществе самой красивой женщины в мире.
— Сексуальные излишества отняли у тебя всякую способность к умственной деятельности. Передай это своей даме.
— Непременно, — с усмешкой пообещал Джек.
— Скажи мне, — произнес Делани, — хотя, конечно, мнение темного, необразованного актера не имеет для меня никакого значения, но все же — это просто ужасно оригинально или ужасно, ужасно оригинально?
— Местами — первое, местами — второе, — дружелюбно ответил Джек.
— Меня посетила одна неприличная мысль, касающаяся твоей матери. — Делани вздохнул. — Боюсь, ты прав. Заезжай за мной в полдень. Отправимся на пляж и постараемся родить какие-нибудь идеи, которые помогут этому безмозглому Майерсу доработать сценарий.
— Хорошо. До встречи. — Джек опустил трубку.
Карлотта вопросительно посмотрела на него:
— Сегодня, похоже, на пляж ты не едешь.
— С тобой — нет. Я еду с Делани.
— Будь я настоящей женщиной, — заметила Карлотта, — я бы стала ревновать.
— Если бы ты была такой настоящей женщиной, я бы сейчас не сидел тут.
— Знаешь, ты, кажется, — первый человек в жизни Мориса Делани, которого он слушает.
— Это я слушаю его.
— К этому он привык.
— Мы отправимся на пляж завтра, если погода не испортится, — пообещал Джек.
— И если ты не понадобишься Делани.
— И если я не понадоблюсь Делани.
— Ну, — откусила гренок Карлотта, — слава Богу, что у меня есть терпение и несколько трубок с опиумом, которые помогут мне скоротать день.
Джек усмехнулся и начал просматривать почту. Он получил письмо от Джулии — первое за четыре месяца, прошедших с момента их нью-йоркского свидания. Сначала он отложил его в сторону, чтобы прочитать в одиночестве, но потом решил, что это было бы проявлением трусости, и вскрыл конверт.
«Дорогой Джек, — прочитал он слова, написанные неестественно красивым, почти каллиграфическим почерком, — я была у адвоката и в ближайшее время подаю на развод. Я не стану просить у тебя денег для себя, потому что собираюсь сразу после завершения формальностей выйти замуж за человека, которого встретила и полюбила. От алиментов на ребенка я, разумеется, не отказываюсь. Я не хочу подавать заявление в Нью-Йорке, поскольку здесь причиной развода пришлось бы назвать адюльтер, а я предпочла бы, чтобы это обстоятельство не стало известно ребенку, когда он подрастет и начнет задавать вопросы. Поэтому я отправлюсь в Рино. Я рассчитываю на то, что ты оплатишь расходы, связанные с этой поездкой. Джулия».
«Почему она все время пишет „ребенок"? — раздраженно подумал Джек. — Я помню его имя». Когда Джек полностью осознал содержание письма, его раздражение исчезло.
— Где ты хочешь устроить нашу свадьбу? — спросил он Карлотту, просматривавшую свою почту.
— Что это? — произнесла она.
Джек протянул ей письмо. Она прочитала его без всякого выражения на лице.
— Где она училась писать письма? — Карлотта закончила читать. — В школе менеджеров?
— По-моему, это самое замечательное письмо из всех, какие я когда-либо получал.
— Ты правильно поступил, бросив ее. Она идиотка.
— Ты пришла к такому заключению на основании одного письма?
— Она не требует денег, — заметила Карлотта, откусывая гренок. — Она могла бы обобрать тебя до нитки.
— Ты потребуешь денег, когда мы будем разводиться? — с усмешкой спросил Джек.
— Руку и ногу, — сказала Карлотта.
— В таком случае мне не следует расставаться с тобой.
— Согласна. — Карлотта подошла к нему, поцеловала в макушку, потом взъерошила его волосы.
— Оказывается, в Калифорнии бывают замечательные утра, — заметил Джек. — Ты не находишь?
— Нахожу. — Карлотта снова поцеловала его и вернулась на свое место, чтобы закончить завтрак.
— А что скажешь о той женщине из фильма? Ты был на ней женат?
— Да.
— Она принесла тебе счастье?
— Да, она принесла мне счастье.
«Этого бы не случилось, — произнес говоривший на кокни молодой однорукий лифтер, — если бы я спал в своей кровати, но к нам пришла моя тетя Пенелопа, и мама уговорила ее заночевать у нас, поэтому я отправился к Альфреду, моему другу, жившему на соседней улице, и лег спать у него. Когда прилетели бомбардировщики, я вскочил с кровати и бросился к окну, чтобы распахнуть его, потом услышал свист. Бомба угодила в соседний дом; пол подо мной вздрогнул, а зеркало, висевшее на стене, сорвалось с крюка; все происходило у меня на глазах, словно в замедленном кино; плавно вращаясь, зеркало начало падать вниз и начисто отрезало мне руку выше локтя...»
Им недавно выдали деньги, и они играли в покер в отеле; лейтенант ВВС, только что вернувшийся из Штатов, молодой, возбужденный, радостный, чувствовавший себя асом после двух боевых вылетов, легко проматывал свои полетные. «Честное слово, — сказал лейтенант, — такого отпуска у меня еще не было. За три дня я надевал трусы два раза. Перед моим отъездом из Викторвилла в Лос-Анджелес приятель дал мне один телефон и посоветовал позвонить по нему; леди дает всем, сообщил он, зато делает это мгновенно, без проволочек и с огромным воодушевлением. Я позвонил ей. Она спросила, как меня зовут; я представился: „Лейтенант Дайнин, мэм". Она сказала: „Лейтенант Дайнин, приходите в восемнадцать ноль-ноль". И я пришел. Она оказалась старой, тридцатилетней, но еще привлекательной и умелой. Она едва дала мне допить бокал, а прервали мы наши забавы лишь в половине двенадцатого, чтобы поужинать. Она сказала, что недавно кончила сниматься в одной картине, а работа над следующей еще не началась, поэтому она располагала временем; мы три дня ходили голые по большому белому дому, стоящему на вершине холма возле глубокого каньона; на нас обоих не было ничего, кроме ее обручального кольца, а ее огромный полицейский пес неотступно следовал за нами по пятам, наслаждаясь зрелищем. Наконец я взмолился: „Леди, если это война, пощадите противника". Я заслужил вечную благодарность летчиков целой эскадрильи В-17, передав им перед возвращением в Европу ее телефон».
— Три короля, — спокойным тоном произнес Джек. — Я выиграл.
Он придвинул к себе лежащие на столе деньги. Семьдесят два фунта.
— Ей уже за тридцать, лейтенант, — сказал Джек. — Ей тридцать два.
Чуть позже он прошел в соседнюю комнату и позвонил. Этой ночью впервые после женитьбы на Карлотте он спал с другой женщиной. В письме, отправленном Карлотте, он не упоминал ни молодого лейтенанта, ни эскадрилью В-17. Когда Джек писал Карлотте, что любит ее, он был совершенно искренен и не кривил душой. Он слишком часто страдал от ревности, живя с Джулией, чтобы сохранить способность изводить себя этим чувством; это война, сказал себе Джек, а почти все связанное с войной гадко, печально, мерзко, и брак не является исключением.
Но последние цепи юношеского целомудрия теперь пали, и Джек стал встречаться напропалую со всеми доступными девчонками, которых в этот последний военный год было полно в Лондоне. Он спал с красавицами, испытывая при этом эстетическое наслаждение. Он спал с дурнушками, испытывая к ним чувство жалости. Но удовольствие от секса Джек получал всегда. Он стал пользоваться большой популярностью после того, как все узнали о перемене, происшедшей с ним. Джек ни разу не сказал женщине, что любит ее, какой бы хорошенькой она ни была. Лгать он не мог. Когда наступил день высадки десанта, Джек вместе с киногруппой войск связи, в которую его включили как человека, имевшего опыт работы в кино, покинул Лондон со вздохом сожаления, поскольку в этом городе осталось триста или четыреста девушек, с которыми он еще не переспал.
Через несколько дней самолет молодого лейтенанта сбили над Руром. Из экипажа не спасся никто.
Ставки принимаются только наличными...
В палате было тихо, тускло горел ночник, освещая темно-бордовые халаты, висевшие на стене у кроватей; один раненый негромко похрапывал, другой повернулся во сне и пробормотал какое-то слово, похожее на «саванну». Джек не спал. Боль усилилась, она захватила его целиком. Тяжелые молоточки ритмично стучали в голове, горле, теле. Когда он пошевелился на подушке, ему показалось, что его голова сделана из тонкой прозрачной резины и ее медленно, безжалостно накачивают горящим бензином. Ему хотелось закричать, но он сдержался. В палате спали пятнадцать человек, он не мог их разбудить. «Если через пять минут боль не ослабнет, — решил Джек, — я позвоню снова». Спустя две минуты он нажал кнопку.
Ему показалось, что медсестра пришла через два или три часа. Джек не узнал ее. Молодая, хорошенькая, она работала недавно и боялась совершить какую-нибудь ошибку.
— Вам же дали таблетку, лейтенант, — прошептала она. — Почему вы не спите?
Медсестра сочувственно коснулась рукой подушки.
— Я умираю, — сказал Джек.
— Ну-ну. Нельзя падать духом.
Девушка снова дотронулась до подушки. Она, видно, почему-то считала, что этот жест делает ее похожей на настоящую медсестру.
— Мне кажется, надо позвать доктора, — произнес Джек, — и сказать ему, что я умираю.
— Доктор смотрел вас в восемь часов, лейтенант. — Медсестра старалась скрыть свое раздражение. — Он сказал, что у вас небольшое воспаление; утром он посмотрит вас снова.
Теперь Джек узнал эту медсестру. За ночь он уже трижды вызывал ее; она напоминала ему секретаршу в конторе отца, которая всегда бросала важные бумаги в корзину для мусора. Он видел девушку сквозь красную пелену, но все же вспомнил ее; все три раза она повторяла одни и те же слова. Это была субботняя ночь, половина госпитального штата отсутствовала, а она появилась здесь недавно и не осмеливалась подвергнуть сомнению слова врача. Доктор сказал в восемь часов, что воспаление не представляет опасности и больной может подождать до утра; это утверждение прозвучало для медсестры как приказ. К тому же в палате лежали раненые, считавшиеся выздоравливающими. Они не должны были умирать, особенно посреди ночи, во время ее дежурства.
Поэтому она снова коснулась подушки и ушла.
Джек полежал с минуту, потом, помогая себе здоровой рукой, сел на край кровати. Но когда он попытался встать, ноги подогнулись от слабости, и он упал, точнее, опустился на пол. Джек лежал, окутанный красным туманом, и думал. Через некоторое время дернул здоровой рукой одеяло соседа.
Уилсон зашевелился. Проснувшись, он поискал глазами Джека.
— Уилсон, — прошептал Джек.
— Где ты, черт возьми? — спросил Уилсон; Джек увидел его приподнятую над постелью голову. Спустя несколько секунд Уилсон сполз на пол. Из его бедер извлекли осколки, поэтому он двигался с большой осторожностью.
— Послушай, Уилсон, если я не доберусь до врача, я умру.
Уилсон в отличие от медсестры провел в госпиталях много времени; он знал, что иногда в них случается. Он кивнул и медленно направился в угол палаты, где стояли два инвалидных кресла. Уилсон подкатил одно из них к тому месту, где лежал Джек. Лишь через десять минут совместных усилий им удалось, обливаясь потом, усадить Джека в кресло. Превозмогая боль, босой Уилсон, толкая кресло, вывез Джека в пустой длинный коридор.
Ни в коридоре, ни в одной из комнат для медперсонала не было ни души. Работники госпиталя либо покинули его на уик-энд, либо спали, пили где-то кофе, занимались тяжелоранеными в другом крыле здания.
— Ты знаешь, куда тебе надо? — тяжело дыша, спросил Уилсон, навалившись на ручки кресла.
Он был техасцем и выговаривал слова протяжно. Его семья владела ранчо, расположенным под Амарильо. Джеку казалось, что он, лежа на постели с израненными ногами и глядя в потолок, мечтает о том времени, когда снова сядет верхом на коня. Его джип подорвался на мине; все говорили, что Уилсон чудом остался в живых.
— Нет, — отозвался Джек, пытаясь сфокусировать взгляд на тускло освещенном красном туннеле, то сужающемся, то расширяющемся. — Отвези меня к ближайшему доктору.
Коридоры расходились под разными углами от того, по которому Уилсон катил коляску, они, казалось, образовывали таинственный, хитроумный лабиринт. Госпиталь построили недавно, он был спроектирован с большой изобретательностью, а они не знали его планировки. Скоро им обоим стало казаться, что они могут бесконечно плутать по темному линолеуму, двигаясь в безлюдной госпитальной ночи под шуршание резиновых колес, шлепанье босых ног Уилсона и его тяжелое дыхание мимо закрытых дверей и огоньков, манящих в тупики, туалеты, пустые кухни.
Наконец они увидели дверь с матовым стеклом, за которым горела лампа. Свет показался Джеку тусклым, красноватым. Из последних сил Уилсон подтолкнул кресло к двери, и она распахнулась. За столом сидел человек с полковничьими погонами на плечах, воротник его рубашки был расстегнут. Маленький, бледный, седой, он ссутулился над бумагами.
Уилсон измученно опустился на свободный стул.
— Полковник, — прошептал он, — полковник...
Полковник ничего не сказал. Он быстро посмотрел на Уилсона, потом подошел к Джеку. Осторожно сняв повязку с головы Джека, он обследовал рану на челюсти. Тихонько присвистнув, подошел к телефону, стоящему на столе, и сказал:
— Это полковник Мэрфи. Подготовьте операционную номер два. Через двадцать минут будем оперировать.
Резиновый шар, наполненный горящим бензином, уже раздулся до предела, но Джек улыбнулся полковнику, который поверил ему. Полковник тоже считал, что жизнь Джека в опасности. Вернуться домой живым — вот что Джек считал своей главной военной задачей.
— Ей уже за тридцать, лейтенант. Ей тридцать два.
— Этого бы не случилось, если бы я спал в своей кровати...
— Не понимаю, почему тебя не могут перевести в Калифорнию, — сказала Карлотта. — В конце концов, там тоже есть госпитали. Я бы постоянно навещала тебя. Виргиния! Господи! Как часто мне удастся приезжать в Виргинию? На этот раз я смогла вырваться из Калифорнии только потому, что в Вашингтоне состоится премьера моего фильма.
Всем казалось, что война кончилась уже давно, хотя после ее завершения не прошло и года. Как и другим пациентам госпиталя, Джеку казалось, что навещавшие их штатские считают раненых упрямцами, цепляющимися за ушедшую эпоху и ведущими себя подобно детям, отказывающимся становиться взрослыми и принимать на себя бремя ответственности. Уилсон выразил общую мысль после очередного визита родственников. «Знаешь, — сказал он, — мы не вписываемся в общую картину. Мы — жалкий утиль, который кто-то по ошибке привез из Европы». Из его ног по-прежнему извлекали осколки.
Джек и Карлотта сидели под деревом в госпитальном дворике. Было тепло, все вокруг зеленело и радовало глаз, только темно-бордовые халаты вносили диссонанс в общую картину; вдали виднелись размытые очертания невысоких гор. Джек уже мог хорошо ходить, а его деформированная, изуродованная шрамами челюсть почти зажила. Его ждали еще две операции на челюсти — врачи называли их косметическими, первая из них была запланирована на следующее утро, но Джек не сказал о ней Карлотте.
Он не хотел портить день. Карлотта заехала к нему всего на два часа, и он решил не омрачать их. Она, конечно, постарела, набрала лишний вес; ее акции в Голливуде стали падать, теперь ей доставались неважные роли в посредственных фильмах, гонорары начали снижаться; она жаловалась, что ее теснят более молодые актрисы.
Джек заметил морщинки на шее, мертвенность крашеных волос, туго затянутый пояс, жалобный взгляд и неуверенные нотки в голосе. Он вспомнил слова молодого лейтенанта, назвавшего ее еще привлекательной и умелой. О встрече с лейтенантом, как и об утренней операции, Джек не стал рассказывать Карлотте.
Он лишь сидел на скамейке рядом с ней, даже не касаясь Карлотты, и думал: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя».
Джек упрямо продолжал верить в то, что выбрался из горящей фермы, месяцами получал инъекции морфия, провел много часов на операционных столах, совершил с помощью Уилсона путешествие в инвалидной коляске не для того, чтобы потерять Карлотту или свою любовь к ней. Он вернется в сад, к зеленеющим листьям авокадо, к плодам, нарисованным рукой ребенка, к аромату лимонов и апельсинов; им удастся заново создать ту атмосферу праздника, в которой они жили.
— И надо же было такому случиться именно с тобой. Это просто несправедливо, — говорила Карлотта. — Все уже находятся дома и даже не вспоминают о войне. Ладно бы ты еще служил в пехоте, но получить ранение в войсках связи! Как ты оказался под обстрелом?
Джек устало улыбнулся:
— Я спал. Иногда попадаешь в неожиданную ситуацию.
— Мне больно видеть тебя таким, дорогой, — дрожащим голосом произнесла Карлотта. — Худым, измученным, смирившимся. Я помню, каким ты был дерзким, самоуверенным... — Она смущенно улыбнулась. — Очаровательным, несносным, говорившим людям в глаза все, что о них думал.
— Обещаю, выбравшись отсюда, снова стать несносным.
— Мы были счастливы вдвоем, правда, Джек? — сказала Карлотта, как бы умоляя его согласиться с ней, подтвердить справедливость ее слов. — Пять славных лет. Проклятая война.
— У нас впереди еще много хороших лет. Я это гарантирую.
Она покачала головой:
— Все так изменилось. Даже климат. Туман не рассеивается до середины дня, я никогда не видела, чтобы так часто шли дожди. Похоже, я разучилась принимать правильные решения. Я была такой уверенной в себе... теперь превращаюсь в развалину...
— Ты выглядишь прекрасно, — возразил он.
— Скажи это моим зрителям, — с горечью в голосе произнесла она.
Карлотта засунула палец за пояс юбки, туго обтягивавший ее талию.
— Мне необходимо похудеть.
— Ты видела Мориса? — спросил Джек. — Как он?
— Ходят слухи, что студия разрывает с ним контракт и выплачивает неустойку. Последние две его картины провалились. Он тебе об этом говорил, когда был здесь?
— Нет.
Делани дважды навещал Джека в госпитале, но их свидания проходили натянуто. В начале войны Делани забраковала медкомиссия; причину отказа он скрывал. Госпиталь, заполненный ранеными, плохо действовал на Делани. Он часто говорил невпопад, избегал тем, связанных с работой, задавал вопросы о войне и не выслушивал ответы. Он специально приезжал к Джеку из неблизкого Нью-Йорка, но оба раза казался рассеянным, спешащим, испытывающим облегчение, когда подходило время прощаться.
— Знаешь, что он осмелился мне предложить? — сказала Карлотта. — Он заявил, что я должна снять квартиру возле госпиталя, чтобы постоянно быть у тебя под рукой. Именно так и сказал. Под рукой. Я ему ответила, что ты сам не согласился бы на это.
Карлотта вынула пудреницу и недовольно посмотрела на себя в зеркало.
— Я была права, а?
— Конечно, — ответил Джек.
— Потом я попросила у него работу. Он предложил мне зайти к нему после того, как я сброшу десять фунтов, и уехал на два месяца снимать фильм. В этом городе, — с обидой сказала она, — люди считают себя вправе произносить вслух все, что придет им в голову.
— Как поживает Бастер? — спросил Джек, чтобы сменить тему и отвлечь Карлотту от ее проблем.
— Он умер... — Карлотта заплакала. — У меня не хватило мужества написать тебе об этом. Кто-то отравил его. Калифорния уже не та, что прежде. Туда понаехали грубые, злые люди...
Клыкастый зритель мертв, с грустью подумал Джек, глядя на Карлотту, которая приложила платок к глазам.
— Мне очень жаль. — Джек коснулся руки Карлотты. — Я к нему привязался.
Теперь, после гибели пса, он произнес это совершенно искренне.
— Он был единственным близким, дорогим мне существом, которое я потеряла за годы войны, — сказала, всхлипывая, Карлотта.
Во время войны, подумал Джек, каждый должен быть готов к какой-то потере. Но он не сказал ей об этом. Он хотел утешить жену, заставить ее поверить в то, что с его возвращением все изменится, климат улучшится, ей снова будут предлагать хорошие роли, злые люди покинут Калифорнию, гонорары возрастут. Но тут к ним подошел Уилсон в темно-бордовом халате. Он давно мечтал познакомиться с известной и красивой женой своего соседа по палате; времени на утешения не осталось.
Вытерев слезы, Карлотта посмотрела на Уилсона, успешно имитируя беззаботную, обворожительную улыбку, привезенную много лет назад на западное побережье из Техаса и сыгравшую немалую роль в ее карьере. Если Уилсон и заметил ее слезы, то, несомненно, решил, что они вызваны жалостью к Джеку.
— Мисс Ли, — вежливо начал Уилсон, покачиваясь на многострадальных ногах, — позвольте сказать вам, что я еще в юности восхищался вами (сейчас Уилсону было двадцать четыре года) и считал вас самой очаровательной женщиной на свете.
— Как приятно это слышать! — произнесла Карлотта, снова превращаясь в ту самоуверенную, кокетливую и опасную актрису, какой она была, когда Джек впервые увидел ее.
Карлотта провела с ним меньше разрешенных двух часов. Она ушла на тридцать минут раньше, объяснив, что боится опоздать на вашингтонский поезд. Сейчас она не могла позволить себе опаздывать. Те времена, заявила Карлотта, когда она была в зените славы и все ей прощалось, остались в прошлом.
Вечером, когда медсестра, подготовив Джека к операции, потушила свет в палате, он заплакал. Это случилось с ним впервые после ранения.
Оказывается, в Калифорнии бывают замечательные рассветы. Ты не находишь?
— Оставайся на ленч, — сказала Клара.
Она загорала, лежа на надувном матрасе перед домом. На ней был крохотный купальный костюм. Спина ее была почти черной. Джек в очередной раз удивился тому, какое у Клары крепкое, красивое тело, совсем не соответствующее ее суровому, разочарованному, секретарскому лицу.
— Морис где-то там. — Она махнула рукой в сторону океана. — Если не утонул. Ты с Карлоттой?
— Нет, — ответил Джек, — один.
Он перелез через низенькую ограду, отделявшую патио Делани от пляжа, и побрел к воде. В этот рабочий день белая дуга побережья в Малибу с броской бахромой налезающих друг на друга домиков была почти безлюдной. Поднялась приличная волна, крутые зеленоватые гребни накатывались на берег, с грозным шипением превращаясь в белую пену, к которой уже спешил следующий вал. Вдали Джек заметил темную точку. Делани упорно плыл вдоль берега, его голова то взлетала вверх вместе с пенистыми барашками, то проваливалась вниз. Заметив машущего рукой Джека, Делани повернул к пляжу.
Минуту-другую казалось, что Морису не выбраться из воды. Волны отбрасывали его назад, и он застрял на уровне волнорезов. Голова Делани снова и снова скрывалась под водой. Затем очередная волна выбросила его на берег; он вскочил на ноги. С Мориса стекала вода. Мускулистый, загорелый, он напоминал немного постаревшего, но еще сильного боксера-легковеса; он словно смеялся над Тихим океаном, пытавшимся сломить его. Улыбающийся, с покрасневшими от соленой воды глазами, он подошел к Джеку, пожал его руку, потом поднял с песка огромное белое махровое полотенце и принялся энергично вытирать им свои редеющие рыжеватые волосы. Завернувшись в полотенце, как в тогу, Делани сказал:
— Жаль, что ты поздно пришел. Поплавали бы вдвоем. Вода великолепная.
— Если ты не перестанешь заплывать так далеко один, когда-нибудь на побережье найдут утонувшего режиссера.
Делани улыбнулся:
— То-то многие посмеются. Выпьешь чашку кофе?
— Я хочу поговорить с тобой. У меня неприятности.
— У кого их нет? — Делани посмотрел в сторону дома. — Клара еще в патио?
— Да.
— Давай прогуляемся, — предложил Делани.
Они зашагали по плотному песку вдоль полосы выброшенных волнами водорослей; в тридцати ярдах от берега покачивались на волнах пеликаны.
— Я собираюсь начать жизнь заново, — сказал Джек. — Мне нужен твой совет.
— Какую жизнь?
— Семейную. — Джек смотрел на пеликанов. — Профессиональную.
Хмыкнув, Делани кивнул головой. Потом наклонился, подобрал камешек и метнул его, заставив запрыгать по воде. Всякий, кто увидел бы его в эту минуту, поразился бы тому, сколько силы, ловкости, энергии сохранилось в Делани.
— Я ждал этого, — сказал он, не глядя на Джека. — Карлотта тебя измучила, верно?
— Да. Сегодня она явилась домой в восемь утра.
— Ты спросил, где она была?
— Нет. Она сама порывалась мне рассказать.
— А, — произнес Делани, — вы уже дошли до этой стадии.
— Да.
— Что ты ей сказал?
— Когда я вернулся сюда после госпиталя, я сказал ей, что мне кое-что известно о том, как она жила в годы войны, но я ее ни в чем не виню и не осуждаю. Черт возьми, я отсутствовал более пяти лет. Давай все забудем, начнем новую жизнь, попытаемся восстановить прежние отношения, предложил я.
— Наивный рыцарь. Что она тебе ответила?
— Она сказала — прекрасно, и я хочу того же. В течение двух месяцев все было замечательно. Почти как прежде. Потом пошли бесконечные вечеринки, она начала уходить из дома днем. Ты знаешь, как живут здесь женщины. Наконец вчера она вовсе не вернулась домой...
— Она хочет развода?
— Нет. Говорит, что по-прежнему любит меня. — Джек устало улыбнулся. — В некотором смысле это так и есть. Другие мужчины значат в ее жизни немного. Во всяком случае, каждый в отдельности. А все вместе они занимают в ней существенное место.
— У тебя есть догадки насчет того, что ею движет?
— Кое-какие предположения у меня, конечно, есть.
Джек тряхнул головой, заставляя себя говорить; он не мог более таить переживания в себе.
— Карлотта так сильно изменилась за время моего отсутствия. Когда мы встретились, поженились, она была совсем иной... До меня она знала только одного мужчину — Катцера. Услышав об их связи, я решил, что это обычная голливудская история — честолюбивая девушка спит с продюсером ради того, чтобы получать хорошие роли и обрести известность. Но потом я обнаружил, что это иной случай. Карлотта встречалась с ним одним семь лет. Она его любила. С нею он был не тем гангстером в смокинге, каким все его считали, а добрым, благородным, чутким, умным и честным человеком. И я должен признать: когда она сказала ему о том, что выходит за меня замуж, он повел себя очень достойно. Не угрожал ей, не пытался навредить мне — а расправиться со мной в ту пору не составляло для него труда — и с тех пор стал для нас обоих хорошим другом. Живя со мной, Карлотта до войны ни разу не посмотрела на другого мужчину. Как и я — на другую женщину.
— Да, это верно. — Делани невесело усмехнулся. — Вы были весьма необычной парой. Так что же, по-твоему, случилось?
— Во-первых, ей было одиноко. Карлотта не способна находиться одна. Во-вторых, она почувствовала, что ее акции падают. Ей не повезло с двумя-тремя картинами, и режиссеры стали приглашать других актрис на роли, которые она хотела бы сыграть. Нет нужды говорить тебе о том, сколько в ней было честолюбия. Я понимаю, какую боль она испытывала. Она панически боялась постареть. Мне кажется, Карлотта пыталась в постелях укрепить свою пошатнувшуюся веру в себя. А для этого всегда мало чьей-то постели. Приходится их часто менять.
Делани кивнул. Он задумчиво почесал голову, взъерошив просоленные тонкие рыжеватые волосы.
— Ну, доктор, — произнес он, — похоже, в рентгеновском снимке нет нужды. Диагноз ясен. А что скажешь о себе? Какие у тебя планы?
— Я собираюсь расстаться с Карлоттой. Я не в силах помочь ей. Если останусь, то возненавижу ее. Мое терпение иссякло.
— Я знал еще в 1944 году, что когда-нибудь ты придешь ко мне и произнесешь подобные слова. Однажды я был на вечеринке. Карлотта тоже там присутствовала. Она подошла ко мне и сказала: «Морис, говорят, ты самый лучший мужчина в этом городе». — Делани безжалостно рассмеялся. — Конечно, это не соответствовало действительности, но ее слова прозвучали как приглашение.
— Не стану спрашивать тебя о том, что произошло позже, — тихо промолвил Джек.
— Да, не стоит.
Они остановились и посмотрели на волны. Пеликаны, не двигая крыльями, периодически взмывали ввысь на пенистом зеленом буруне.
— Возможно, у них есть свои причины проводить весь день подобным образом. — Делани кивнул в сторону птиц, — но скорее всего они просто рисуются; они как бы говорят: «На песке мы не слишком красивы, зато на гребне волны мы очень хороши». Они, наверно, тайные члены актерской гильдии.
Он плотнее запахнул полотенце. Пляж продувался северным ветром, густой туман поглощал солнечные лучи.
— Ты не хочешь перебраться к нам? — спросил Делани. — Летом здесь прекрасно, в будни людей практически нет, ты сможешь залечивать в тиши свои раны. Над гаражом есть комната для гостей; мы даже не будем видеться, если не захочешь.
— Спасибо, — поблагодарил друга Джек, — но я собираюсь поехать сначала на восточное побережье, а потом, возможно, и в Европу.
— Будешь там сниматься?
— Нет. Кажется, я не хочу больше работать в кино, — медленно произнес Джек. — Все равно, с моим теперешним лицом не приходится рассчитывать на прежний успех.
Он коснулся рукой челюсти.
— Найдутся роли и для тебя. Вроде той, что ты отверг в прошлом году. Возможно, сразу тебе не удастся получить главную роль, но со временем...
— Какой из меня теперь актер. Ты ведь сам это знаешь, да?
— Ну...
— Знаешь, — твердо повторил Джек.
— Да, — согласился Морис.
— Ты предлагал мне ту роль по дружбе?
— Отчасти да, — произнес Делани.
— Кино меня больше не интересует. Возможно, в этом виновата война. Не знаю. Все это кажется мне ерундой. Актерство — неподходящее занятие для взрослого мужчины вроде меня. Наверно, я думаю так потому, что я никогда не был настоящим актером. Я попал на съемочную площадку случайно... — Джек пожал плечами. — И с легкостью покину ее.
— Что ты будешь делать в Европе?
— Ну, я тут поговорил с парой людей, — смущенно произнес Джек, — из общества квакеров... они занимаются беженцами, инвалидами. По-моему, сейчас в Европе косметические дефекты лица не мешают человеку. Мы с таким усердием крушили там все, что сейчас не грех заняться восстановлением...
Делани засмеялся:
— Неверная жена, как никто другой, способна подвигнуть человека на добрые дела.
— Окончательное решение я приму в Нью-Йорке.
— Как у тебя с деньгами? — спросил Делани.
— Мне платят пенсию. Сто девяносто долларов в месяц. Ну, еще я буду получать заработную плату. Перед войной, когда я был богат и не знал, что делать с деньгами, мой агент заставил меня приобрести кое-какие акции и облигации. По его словам, с той поры их стоимость возросла втрое. Я могу выручить за них от ста до ста двадцати тысяч долларов... с голоду я не умру.
— И все же, как обидно... — Делани огорченно покачал головой. — Мы так прекрасно ладили, ты и я. Нам все удавалось. Казалось, нам всегда будет сопутствовать удача. Но дело было не только в везении. Мы владели великим секретом. Не лгали друг другу и умели работать вместе. Проклятая война, — тихо, с горечью произнес он. — Всю войну я строил для нас планы. Я думал, что, когда ты вернешься, мы создадим независимую компанию и покажем всем, как надо снимать фильмы. Если бы в 1945 году ты вернулся со своим прежним лицом, нам был бы гарантирован успех, все спешили бы вложить деньги в наше предприятие...
— Но в 1945 году я не вернулся со своим прежним лицом.
— А теперь, — задумчиво потер щеку Делани, — у меня нет средств на трехминутный ролик, рекламирующий презервативы.
— Тебе известно, Морис, что это временные трудности. Многие хотят заполучить тебя.
— Да. Многие. На их условиях. Чтобы снимать всякое дерьмо. Конечно, положение изменится. Непременно. И когда это случится, я приду к тебе, где бы ты ни был и чем бы ни занимался, и мы еще утрем всем носы. — Делани усмехнулся. — Сообщи свой новый адрес, чтобы мне не пришлось тратить время на розыски.
— Обязательно сообщу, — с трудом выговаривая слова, пообещал Джек.
«Господи, — подумал он, — после госпиталя я готов расплакаться по любому поводу».
— И все же, если тебе нужны деньги...
Джек покачал головой, глядя на песок.
— Так что ты хочешь от меня? — спросил Делани.
— Ты вытащил меня сюда. Скажи, что мне пора уезжать.
— Уезжай, — резко сказал Делани. — Немедленно. Я с радостью составил бы тебе компанию. Не тяни. Собери вещи и отправляйся в дорогу сегодня же. До наступления вечера пересеки границу Калифорнии. И не оглядывайся назад.
Его голос прозвучал жестко, решительно; Делани как бы нес ответственность за все, что произошло с Джеком и некогда юной, очаровательной Карлоттой; Джек был для него воплощением страхов, которые испытывал сам Морис, неудач, пережитых им, предательств, совершенных по отношению к другим.
— Не спорь с ней. Ни с кем не спорь. Просто уйди.
Они расстались без рукопожатия. Джек покинул Делани, который в своей тоге из полотенца напоминал величественного сенатора, произносящего речь у кромки бушующего моря. Джек прошел между двумя соседними коттеджами к дороге, где стоял его автомобиль; ему не хотелось прощаться с Кларой.
Карлотту он дома не застал. Быстро уложил вещи в пару чемоданов и написал записку. В два часа дня Джек уже мчался на восток.
— Ты правильно поступил, бросив ее. Она идиотка.
— Ты пришла к такому заключению на основании одного письма?
— Она не требует денег. Она могла бы обобрать тебя до нитки.
— Я говорил с адвокатами мисс Ли, — сказал мистер Гарнетт, — боюсь, вам грозят неприятности, мистер Эндрюс.
Мистер Гарнетт, лысоватый человек с тихим голосом, владел адвокатской фирмой, специализировавшейся на бракоразводных процессах. Джек с одинаковой брезгливостью относился к юристам подобного профиля и врачам-венерологам.
— Она требует огромную сумму. Поскольку у вас нет постоянного дохода, который мог бы стать источником алиментов, два дня назад ее адвокатам удалось добиться наложения временного ареста на ваши банковские вклады и ценные бумаги. Они утверждают, что вы собираетесь покинуть страну и в связи с этим интересы их клиента нуждаются в дополнительной защите.
— Но это нелепость, — сказал Джек. — Ведь дело о разводе возбуждаю я.
Он не выдвинул обвинения в адюльтере, потому что не хотел мараться в грязи. Джек предполагал, что развод будет спокойным, бесконфликтным, корректным.
— Какие у нее основания для иска?
— Она обвиняет вас в нарушении супружеской верности, мистер Эндрюс, — мягко проговорил мистер Гарнетт. — Боюсь, все козыри в ее руках.
— Господи, — вырвалось у Джека, — вся Калифорния знает, что она спит с кем попало.
— Вы располагаете доказательствами на сей счет, мистер Эндрюс?
— Нет, но всем известно...
— А она может доказать вашу вину, мистер Эндрюс. — Мистер Гарнетт смущенно перевел взгляд с Джека на бумаги, лежавшие на столе. — Ее адвокаты уведомили меня о том, что нанятый ею детектив следил за вами в Нью-Йорке; они располагают компрометирующими вас сведениями.
— О Боже.
Джек как-то встретил сотрудницу Красного Креста, с которой познакомился еще в Лондоне, и скорее от одиночества, чем по какой-либо иной причине, провел несколько ночей в ее квартире, не получив от этого большого удовольствия.
— Разумеется, мистер Эндрюс, вы тоже можете нанять детектива, хотя я полагаю, что до развода она будет проявлять большую осторожность. И все же шансы на успех есть. Я знаю одно очень хорошее калифорнийское агентство, которое в прошлом неоднократно добивалось блестящих результатов, и...
— Нет, — отрезал Джек.
Он вспомнил завтрак в саду. Ни при каких обстоятельствах он не пошлет полицейских следить за женщиной, которая в то далекое утро сидела напротив него.
— Нет, — тихо повторил он. — Забудьте об этом.
— Могу сообщить вам нечто приятное. Ваша пенсия останется нетронутой. Закон это гарантирует.
— Спасибо старому доброму дядюшке Сэму. — Джек встал.
— Мне нужны ваши инструкции, — произнес мистер Гарнетт. — Каким образом я должен оспаривать правомочность ее притязаний?
— Не делайте этого. Меня здесь не будет. Я уеду в Европу.
— Я знаю адвокатов вашей жены, — заявил мистер Гарнетт. — Они... безжалостны. Они пойдут на уступки лишь в том случае, если вы станете защищаться и выдвинете встречный иск... Если ваша жена вела себя так, как вы сказали... вполне возможно, нам удалось бы разыскать свидетелей... гостиничных портье, горничных, шоферов...
— Не надо. Дайте ей то, что она просит. Постарайтесь оставить мне что-нибудь, но если это не удастся сделать без названных вами мер, уступите ей.
— Мне очень жаль, мистер Эндрюс. — Гарнетт встал, собираясь прощаться. — Да, еще кое-что. Ваша жена также претендует на автомобиль, на котором вы уехали в Нью-Йорк. Похоже, она добивается его конфискации. Я, конечно, приму необходимые контрмеры.
Джек расхохотался:
— Отдайте ей автомобиль. У меня все равно не останется денег на бензин. Отдайте леди все.
Не так-то легко спасти то утро в саду, подумал он, покидая контору адвоката.
Скоро над руинами, монументами, телевизионными антеннами Рима забрезжит рассвет. Пора подводить итоги ночи. Он услышал забытые голоса и песни, открылись и стали кровоточить старые раны, призраки ожили и вновь растаяли; оказалось, что хрупкое, неустойчивое настоящее покоится на разрушающихся колоннах прошлого; мертвецы восстали из могил, предостерегающе покачивая указательными пальцами.
Среди этой шумной веселой компании...
Смерть.
Он снова вернулся в Настоящее; терпеливое, ждущее, оно лежало рядом с ним на гостиничной подушке. Он словно попал в осаду. Ночные приступы измучили его, утренний перезвон церковных колоколов звучал как отголоски канонады. Душевные силы, которые помогли Джеку пережить ранения, госпитали, неудачи, потерю любви, теперь, казалось, покидали его. Чувствуя на губах вкус свежей крови, он слышал сквозь полудрему чей-то шепот: «Ты не вернешься живым из Рима».
«Вероника, — подумал он. — Почему ее нет здесь? Почему она отсутствует, черт возьми?» Джек зажмурил глаза и увидел ее прекрасную фигуру. Его охватило желание. Если бы она лежала рядом с ним, все было бы иначе.
Римское утро. Слышен треск «веспы», эхо которого отражается от древних красно-коричневых стен; звонят колокола. Церкви Сант-Андреа делла Валле, Санта-Мария сопра Минерва, Сантиссима Тринита деи Монти, Сан-Луиджи де Франчези, Санта-Мария делла Паче приветствуют ювый день, сменяющий ночь кошмаров.
В церкви Санта-Мария ин Трастевере служат мессу. Пять старух в черных платках согнулись на холодном каменном полу; они внимают молодому сонному священнику, который повторяет: «Господи, помилуй, Господи, помилуй».
Впереди у них трудовой день — мытье полов в больницах, конторах, отелях. Возле дворца Фарнезе оживает рынок; на подстилке из соломы лежат цветы и сицилийские артишоки, апельсины, средиземноморская кефаль, краснобородка, камбала, треугольники пармского сыра, свиная ливерная колбаса, салями. Последние шумные посетители вываливаются из ночного клуба, размещенного в подвале на виа Венето; они громко смеются, говорят на полудюжине языков, садятся в машины; ревут моторы, над улицей стелется голубая дымка. Пьяный, ударивший Джека, беспокойно спит в гостиничном номере; костяшки его пальцев слегка распухли; его ждет тяжелое утро, пробуждение, и еще во сне он готовится принять две таблетки аспирина, за которыми последуют сельтерская и «Кровавая Мэри». Полицейский, дежурящий на виа Боттедже Оскуре, напротив штаб-квартиры коммунистической партии и дома испанского посла, прижался к стене, спасаясь от ветра; он пытается угадать, кто будет митинговать сегодня, на чьи головы опустится его дубинка. Морской пехотинец, охраняющий американское посольство, ждет конца смены, радуясь, что ему досталась ночная вахта — ночью студенты, возмущенные египетскими, венгерскими или алжирскими событиями, не устраивают демонстрации. Морской пехотинец лениво пытается понять, почему итальянские студенты испытывают потребность заявить о своем возмущении произволом властей в Африке и Центральной Европе, что заставляет их маршировать, размахивая флагами, перед посольством США в Риме. Тибр несет свои воды, зажатые каменными берегами, мимо Кастель-Сант-Анджело и Дворца правосудия; узкий, прирученный поток скользит сквозь Историю к морю, мимо Остии, некогда процветающего портового города с населением в двести тысяч человек, от которого остались одни развалины.
На пьяцца Колонна грохочут грузовики с утренними газетами, извещающими о скандалах и кризисах; на улице, ведущей к Колизею, рабочие возводят деревянные трибуны для парада; из открывающихся кафе разносится аромат кофе; последние шлюхи неохотно покидают пьяцца Барберини, где постоянно бьют фонтаны и вода падает на мускулистые плечи, поднятую голову, рыбий хвост бронзовой фигуры, олицетворяющей море и сушу.
По всему городу женщины встают с постелей, чтобы отправиться за хлебом, готовить завтрак, собирать детей в школу; беззвучно стонут мужчины, заставляя себя влезать в пропитанную вчерашним потом одежду, готовясь к тяготам изнурительного трудового дня.
Ясный, ветреный, зеленовато-розовый средиземноморский рассвет касается белых стен Париоли, наспех возведенных миллионерами эпохи Муссолини и достроенных в годы реализации плана Маршалла; первые нежаркие лучи солнца падают на купол Ватикана, вершины ив, растущих в саду Борджезе, обнаженную голову Гарибальди, статуя которого стоит на Яникуле. [43]
Светлеет и в гостиничном номере, где Джек, захваченный в плен прошлым, лежит без сна и слушает голоса ушедшего века...
Джек взглянул на часы в кожаном футляре. Пора вставать. Он поднялся с кровати, побрился. В ярко освещенной ванной собственное лицо показалось Джеку усталым, измученным, он порезал бритвой шею, кровь долго не останавливалась.
Джек оделся. Голова была тяжелой, кончики пальцев — слегка онемевшими. Он взял пакет Деспьера и спрятал его в шкафу под стопкой рубашек. Солнечные очки скроют воспаленные глаза от пристального взгляда Делани.
Собравшись уходить, Джек заметил на полу возле двери конверт. Наклонившись, чтобы поднять его, он испытал легкое головокружение. На конверте не было ни фамилии, ни адреса. Джек вскрыл конверт непослушными пальцами, подозревая, что это очередной ночной приступ, отголосок кошмаров.
«Эндрюс, — прочитал он. Послание было написано красными чернилами нервным, торопливым почерком. — Мне попалась цитата, которая касается вас. Это Плиний в изложении Леонардо да Винчи. Вы интересуетесь естествознанием? Вот она:
Могучие слоны обладают качествами, редко встречающимися у людей, а именно: целомудрием, сдержанностью, чувством справедливости, уважением к традициям. Когда нарождается молодой месяц, они идут к реке и тщательно моются в ней; поприветствовав таким образом планету, они возвращаются в леса.
Они очень стыдливы и спариваются только под покровом ночи, тайком; прежде чем вернуться в стадо, они моются в реке.
Помните о слонах, Эндрюс, будьте стыдливы, смойте с себя грязь. Брезач».
Джек оцепенело уставился на тонкий листок. Значит, к двери подходил Брезач, подумал он. Этот парень — сумасшедший, он способен на все. Только безумец мог подкрасться к его номеру в три часа ночи, чтобы оставить подобное послание.
Аккуратно сложив конверт, он сунул его в карман. Потом заставил себя открыть дверь, ведущую в коридор.
И все же дни были сносными. Ночи давались гораздо труднее.