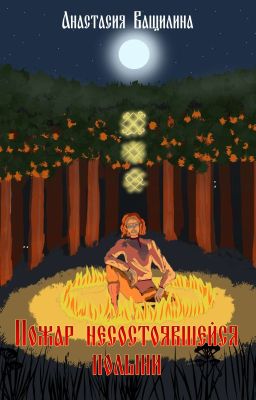ГЛАВА 9
— Иди, Сева, поцелуй бабушку лоб.
Мальчик склонился над сморщенным белым лицом старухи и скривил губы. Недовольно буркнул:
— Не буду... — И отступил на несколько шагов.
— Как это не будешь?! — вскинулась мать. — Почему не будешь?
— Она воняет.
— Целуй. Или ты хочешь, чтобы она запомнила тебя бессердечным?
Мальчишку схватили под локти и потянули к столу.
— Не буду целовать! Она противная! Не буду! Не буду! Не буду! — Он захлёбывался криком и словами, взбрыкивал. Несколько раз свалил по паре свечей, но его отец успел их поймать, лишь закапав пол воском.
— Несносный, так нельзя с мёртвыми. Она ещё вернётся за тобой... О, гляди, уже пришла.
В сенях что-то железно загрохотало, и мальчишка заверещал пуще прежнего, лягнул в живот державшего его мужика и повалился на пол. Мгновение — хлопнула дверь, и он уже мчался по дороге — это Житеслав увидел через открытое оконце.
Пузатый мужичок утёр взмокший лоб рукавом, выдохнул:
— Нехорошо это...
Отец мальчишки, Лад, подошёл к телу на столе и глубоко вдохнул.
— Действительно, пахнет прескверно. — Он обернулся на Житеслава. — Я же оплатил масла. Почему такой смрад?
Житеслав пожал плечами, а сам задумался. Старуха была худой и сухой, без следов гниения, будто кто-то выпил из неё жизнь вместе с кровью и всеми остальными жидкостями. Вяленая рыба, не иначе. От чего тогда мог быть запах? Пёс его знает, принесли к столу, и ладно. Разбираться ещё, почему какая-то мёртвая старуха воняет, Житеслав не собирался. Он вообще не собирался с ней разбираться — отец заставил, и Житеслав натёр мягкую неживую кожу душистым восточным маслом. Хватит с него.
— Дома поговорим, — процедил отец так, чтобы его слышал только Житеслав, и от этого свистящего говора в животе зашевелился холодок.
Погребение окончилось слезами и криками плакальщиц. Житеслав сбежал как только умолк последний наигранный всхлип. Его угнетали чужие крики. Смерть есть смерть, и делать её краше или глубже — бесполезно. Только отец восхищался обрядами — предвкушал скорую наживу.
Темницу поставили не в самом сердце города, но около него. Червь, жрущий сладкое чрево. Людей оттуда почти не выпускали, большая часть просто сгнивала, доживая остаток жизни в тёмном подземелье на тонкой соломенной подстилке. А умирали чаще всего зимой: темницу не отапливали, и люди просто-напросто замерзали. Не самая приятная смерть.
Житеслава стража узнала сразу и пропустила без лишних вопросов. Раньше ради этого человека сюда ходил Боремир: приносил лекарства, тёплую одежду, а однажды даже пронёс прялку. А теперь некому.
Ступенька за ступенькой, стук подошвы эхом отражался от каменной кладки. Житеслав подхватил со стены один из зажжённых пламенников, и идти стало легче. Поворот, ещё поворот. Взгляд нашёл нужную клетку, единственную освещённую изнутри огнём.
Женщина сидела в самом углу на лавке и оглаживала новую пряжу. Прялка стояла здесь же. Удивительно, как только разрешили пронести острое в темницу. Веретеном можно было заколоть либо себя, либо стражника. А то и вскрыть большой замок.
Житеслав откашлялся — не для привлечения внимания, скорее от сырости, но женщина уже подняла на него взгляд. Мягко прошелестела, поднимаясь на ноги, свежей рубахой и зипуном, явно принадлежавшим кому-то из господ. В плечах он был ей широк, а глубокий синий цвет оттенял пшеницу косы, переброшенной на грудь.
— Здравствуй, — сказала она. — А где Боремир? Ты пришёл меня хоронить? — Лёгкий смешок слетел с её губ.
Нехорошая шутка для такого места.
Женщина склонила голову набок. Такая мягкая, такая женственная. Её бы одеть в дорогое платье и отвести в терем, а не держать в жутком грязном подземелье.
И имя ей однозначно подходило. Любица.
Житеслав покачал головой и поджал губы.
— Нет. Он больше не отдаёт приказы.
— Вот как. — Любица задумчиво пожевала губы. — Наверное, ты пришёл не просто так, да? Как там дети?
Она присела на край лавки, перекинув косу на спину. Свет пламенника отражался от стен, и на лице Любицы плясали блики. Было не понять, что выражало её лицо, но скоро оно точно будет перекошено скорбью.
— У меня для тебя есть новость, — сказал Житеслав и заметил, как Любица напряглась.
Что же, он делал это множество раз, сделает и сейчас.
— Твоя дочь. Она...
Любица подскочила, обхватила руками прутья и прижалась к ним лбом.
— Говори! Что с ней?
Немного замявшись, Житеслав сказал тихо, с хрипотцой:
— Она умерла. Её сожгли на костре. Мне жаль...
Даже в полутьме он увидел, как зрачки Любицы расширились. Простонав срывающимся голосом «о боги», она зажала рот рукой и разрыдалась.
Ему было жаль, но кто, как не Житеслав, сообщил бы об этом? Только поклоннику смерти легко видеть чужие стенания, переносить людской ужас. Житеславу не привыкать. Но даже сейчас ему стало неизъяснимо жаль эту женщину. Наверное потому что он знал Кристалину лично и много слышал о ней от Боремира.
Боремир.
Сердце пропустило удар.
— Я понимаю твои страдания, — пробубнил Житеслав, всё ещё ощущая тяжесть в груди. - Я ведь тоже...
— Ни хрена ты не понимаешь!
Любица утирала слёзы. Её глаза покраснели, а нос опух, и всё равно она не растеряла своей красоты и чего-то нездешнего, княжьего. Все эти плавные движения, тонкие пальцы, хоть и покрытые мозолями и маленькими белыми шрамами. Что-то было в ней от знати, и Житеслав всё чаще ставил под сомнение её кметское происхождение.
— Онагост тоже знает. Я отправил письмо.
Любица застыла, перестала рыдать. Обхватила прутья и, всхлипнув, хрипло сказала срывающимся голосом:
— Онагосту нужен отвар. А для отвара нужны травы. Ты ему поможешь, — она ткнула пальцем в Житеслава. — Доставай пергамент или бересту. Хоть на лбу себе нарисуй.
И Житеслав записал рецепт, что изложила Любица. Он не знал, зачем ему вообще помогать Онагосту: их ничего не связывало кроме Кристалины, да и та уже разлетелась по воздуху, удобрила почву. Говорили, будто на могилах чародеев сами собой вырастают подсолнухи, но Житеслав знал, что это красивые россказни. На самом деле подсолнухи сажали родные умершего, а если родных не находилось, то и лекари могли принести семян. Считалось, что чародейская сила впитывается в цветок, а чёрные зёрна с частичками чар разносили птицы, и там, где они опадали, вырастали самые красивые цветы, самые плодородные кусты и деревья. Семена подсолнуха использовали ведуньи и ворожеи, волхвы и знахари. Ими наносили вред и порчу, а если праздная женщина съест такое семечко, то ребёнок непременно родится чародеем и будет мучиться всю жизнь, тянуться к той могиле, на которой рос цветок, что передал ему силу. В конце концов, такой чародей постепенно умирал, ведь сила влекла его обратно к хозяину, в мир Нави.
Красивые сказки. Но Житеслав в них не верил. Он повидал столько смертей, что лучше бы действительно птицы разносили эти зёрна, а не лесные звери — гнильё по округе; работы было бы меньше. А так ходи, собирай этих людей, как черепки от разбитого кувшина.
Наскоро попрощавшись и взлетев по лестнице, Житеслав выскочил из темницы. Грудь пекло от бега, и он не мог надышаться чистым воздухом, а не затхлой сыростью.
Что же, дело оставалось за малым. Зайти домой и взять нужные травы и корни. А Любица пусть обдумывает весть о гибели в одиночестве. Ей всё равно придётся вернуться домой — Боремира больше не нет, вместо него назначат нового воеводу, а тот отпустит женщину, что обманом закрыли под замок.
Рецепт Житеславу казался сомнительным и самым обычным, но что простолюдинка — или всё-таки госпожа? — знала о травах? Едва ли хотя бы половину того, что знают лекари. Но раз отвар помогал Онагосту, то кто Житеслав такой, чтобы что-то говорить? Кто, как не Житеслав мог знать, что на разных людей снадобье действует по-разному.
Уже у ворот Житеслав окликнул возницу и, сунув в руку старика несколько медяков, плюхнулся в мягкое сено в телеге. Идти под палящим солнцем не придётся, и настроение поднялось. Сейчас бы в реку окунуться... От сгоревшего дома недалеко протекала Маковая, вот там и охладится. Но сначала домой.
***
Куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда. Ноги сами несли в какую-то сторону, за спиной — пестерь с остатками снадобья, одеждой и запасом еды — всё то сухое, что Онагост и Кристалина сушили прошлым летом, что не успели продать, и что сохранилось после пожара, — немногое, очень немногое. Но на первую седмицу хватит.
Онагост не знал, в какой край податься, но был уверен, что сюда он больше не вернётся. Здесь его ничего не держало, и оставаться в этом доме, в этой деревне он больше не мог.
Его душили слёзы, хотя прошла уже добрая половина дня, и солнце неумолимо клонилось за деревья, — достаточно времени, чтобы перестать горевать. Перед глазами всё плыло, Онагост даже не помнил, куда именно направился, выходил ли он за околицу деревни, в какой стороне город. Да и куда он вообще шёл, леший бы вас побрал?!
Голова на миг закружилась, и Онагост запнулся о торчавший из земли корень. В попытке удержать равновесие рука упёрлась в кору, живо вляпавшись в смоляные подтёки. Под ногами зашуршал ковёр из крупных иголок, где-то вдалеке кричала неясыть, совсем рядом стучал дятел.
Иглы, сосновая смола, птицы... Он что, в лесу?!
На мгновение в груди стало горячо, но не как от приступа — от страха, затем внутренности похолодели.
Боги, какой же он безумец! Пойти в лес, да ещё и ночью. Чем он вообще думал?
Ничем, в том-то и дело. Разум затуманился, стоило закинуть пестерь за спину, и заработал только сейчас.
В самом деле, что же он творит? А... что ему ещё делать? Куда податься? Дома нет, семьи нет, в деревне быстро прикончат, ведь Белочники наверняка знают о нём и захотят наведаться в гости.
Уж лучше скитаться одиночкой, чем быть повешенным в родном месте на потеху людей.
В народе говорили: лес не возвращает людей. Тех, кто заходил слишком глубоко, он забирал себе и превращал в прислужников Лешего, лесавок или ещё какую тварью. Лес живой, лес сохранит и убьёт, заберёт свою дань. Потому и первый храм Промыслителя построили в прилеске, и капища богов часто стояли именно в лесу.
Потому Онагост и боялся леса.
***
Едва Житеслав отпер дверь в сени, как на него дохнуло горечью и душистыми маслами. Видимо, ставни отец так и не открыл, а то и вовсе ещё не вернулся, придётся потерпеть. Но стоило шагнуть внутрь, как Житеслав оторопел.
Отец развалился за столом — тем самым, на котором каждый день лежал кто-нибудь мёртвый, — а перед ним стоял небольшой бочонок и кружка. Судя по запаху, с брагой.
— Опять нажрался? — презрительно спросил Житеслав.
— Не тебе меня судить, — заплетаясь, прохрипел отец.
— Ну конечно, — зашептал Житеслав так, чтобы только он мог себя слышать, — не мне. Кому ещё-то.
— А если он к нам больше не придёт? — спросил отец и икнул, кивая на бутылочки от масла у порога.
Житеслав не сразу понял, что речь шла о Ладе, чью мать сегодня хоронили.
— Когда он ляжет на стол, его никто спрашивать не будет, хочет он к нам или нет, — отмахнулся Житеслав.
— Но бабку его ты плохо обмазал. Он мог нам и больше денег отвалить, если б не ты, кусок недоумка.
Житеслав только хмыкнул. У него ушли все три бутылочки с маслом, как он мог плохо обработать? Житеслав очень даже хорошо справился с работой. Он начинал закипать от досады.
— Нет бы хоть раз сказал «молодец, сынок, хорошо справился»...
— Да? А может тебя ещё и в задницу расцеловать? — Отец показано крепко расцеловал собственные ладони. — Ты и так бабой вырос. Весь в мать. А я ведь любил нашу семью...
Житеслав покачал головой, тихонько сказал:
— Никого ты не любишь, кроме себя. И не любил. Ни меня, ни маму.
— Да что ты? А что... что ты вообще тут разнылся? А-а, — пьяно протянул отец и рассмеялся, — у тебя же друзья сдохли. Воевода этот да подружка его. Ну так им и надо...
Житеслав не сразу понял, что сделал, а лишь когда отец отшатнулся, схватившись за щёку. Ладонь пульсировала и горела. Житеслав опустил на неё взгляд. В животе неприятно ухнуло, а затем сжалось. Он никогда не поднимал руку на отца, но часто получал от него самого подзатыльники, а все попытки причинить больший вред сыну мгновенно пресекались. И сейчас Житеслав стоял, не в силах поверить, что он дал пощёчину своему главному страху и хомуту.
Отец ощерился, отнял руку от щеки.
— Ты что же делаешь, щенок?
— Не смей так говорить о них. — Житеслав готов был испепелить его взглядом.
— Посмею. Ты к ним сбегал постоянно. От родного папки сбегал! Не стыдно? Кто тебя вырастил, тупицу? Иди, свети патлами, может какой мужик подберёт для мыльни. Они любят щуплых парнишек. — Он налил себе ещё браги, по комнате поплыл душный горький запах. — Сбегает и сбегает. С чужими лучше, чем со мной, да?! Ну и вали отсюда. И не смей мне больше в глаза смотреть.
Отец поднёс кружку ко рту и замер, с прищуром осматривая Житеслава.
— В кого ж ты вырос-то такой хлюпик... Вон и накидку замарал.
— Хватит уже. Чай не девицу отчитываешь, — огрызнулся Житеслав.
— Да-а? — пьяно протянул отец. — А ощущение, что у меня не сын, а дочь. У меня в твоём возрасте уже было... был ты. А у тебя что? Руки в синяках? Промыслитель, вырастил слабака на свою голову... Только и умеешь, что руку на папку поднимать. Вот я тебя... Сейчас... — Выругался. — Да где же он...
Житеслав шагнул назад, упёрся лопатками в дверь. Та оказалась закрыта. Успеет ли отпереть и выскочить наружу, если вдруг дело начнёт набирать не тот оборот?
Нет уж, он не трус. И сможет пресечь любое поползновение в свою сторону.
Отец взял в руки большой нож и недобро глянул на Житеслава. Повертел его в руках, проверил остроту и поднялся со скамьи. Житеслав испуганно поставил ладони, успокаивая, а у самого даже язык онемел. Вот чего он не ожидал, так это ножа в руках пьяницы. Житеслава начало колотить, ноги перестали слушаться, сердце забилось где-то под самым горлом.
Это ли видела мама, прежде чем её глотка оказалась неровно вскрыта?
— Вслед за дружком своим отправишься, — невнятно сказал отец.
Он неустойчиво шагнул, привалившись к печи, а затем один быстрым прыжком метнулся к Житеславу и воткнул нож ниже рёбер. На миг тело обдало холодом, желудок сильно заболел, но спьяну отец не смог попасть даже в живот, только приколол край накидки к двери. Небрежно оттолкнув его от тебя так, что тот повалился на стол, Житеслав вытащил нож и швырнул под лавку. Его всё ещё колотило.
Что же, упрашивать долго не пришлось.
Житеслав направился в свою горницу, наверх, схватил большую суму и начал собирать всё, что может пригодиться. Травы, склянки, небольшие записи, некоторые особо ценные письма Боремира. Одежды у него было мало, лишь несколько подрясников, штанов и пара расшитых рубах. Сложив каждую вещь так, чтобы она занимала как можно меньше места, он убрал всё в суму. Из-под половицы вытащил кошель, туго набитый монетами, положил во внутренний карман рясы. Спустился с заметно отяжелевшей ношей вниз, чуть не упав со ступеней на нетвёрдых ногах.
— Ты куда собрался-то, крысёныш? Сбежать решил? А отцу ничего сказать не хочешь? — Он наигранно покивал. — Правильно, ничего не говори. Лучше же молча бежать, как крыса, нежели с папкой говорить...
Житеслав развернулся. Взгляд освирепел, и он медленно, раскатисто прохрипел:
— Да мне противно видеть твоё лицо!
Отец сипло рассмеялся.
— Ба-а-а-а, а чьё ж не противно то? Своё что ли?
— Да, — с вызовом крикнул Житеслав, — потому что в нём я вижу маму. Маму! А не тебя, подонка, — выплюнул он.
Житеслав перехватил поудобнее суму и широкими шагами прошёл к двери.
— Можешь больше не возвращаться, щ-щенок. Это больше не твой дом, а ты не мой сын!
— Больно надо, — пробурчал Житеслав. — Эта постройка давно уже не дом. Лечебная изба — да. — Закинул суму на плечо. — В следующий раз, подыхая в канаве, вспомнишь меня. Да поздно будет.
Житеслав захлопнул дверь, а в спину ему полетели такие слова, что даже у него покраснели уши и щёки. А может, виной тому была ярость, наконец сполна накрывшая его. Он столько времени запрещал себе злиться на отца, ведь это же его отче, он его вырастил, дал кров и еду. А теперь нет у него отца. Да и не было никогда, так, всего лишь мужик, что возомнил себя родителем, но даже не предпринял ни одной попытки сблизиться с сыном.
Житеслав одёрнул капюшон и выправил волосы из-за ушей, — прямо как учил отец. Его передёрнуло от этой мысли. Учил ли? Или навязывал какое-то своё видение, не давая даже мысли допустить сделать по-другому? Как же он всё это ненавидел, все эти нравоучения, и каждый день надеялся, что отца затопчет чья-нибудь кобыла или заберёт болото, как и тех, чьи тела они возвращали людям.
Что же, выходит, Житеслав никогда его и не любил — скорее боялся. С самого детства привык к унижениям, непрошеным советам. Теперь же это всё в прошлом. Он ещё не знал, куда пойдёт, но его... этот человек и этот... это жилище — слова «отец» и «дом» теперь вызывали неприятные ощущения в теле — точно больше не будут частью его жизни. И от осознания этого становилось легко и радостно. Да настолько, что Житеслав начал смеяться, и будто вместе со смехом из него испарялись все тяготы, все мысли об обязанностях, что на него навешали. С каждым резким выдохом становилось легче. Наверное, со стороны он походил на безумца, но ему было всё равно. Теперь у него есть, куда идти, и да пусть весь мир ему станет домом. Он, леший вас всех побери, счастлив!
Глубоко вдохнув, Житеслав различил запахи вечера. Мокрая земля, свежие листья, сосны, дым от бани, горькая полынь и — совсем легко — одуванчики. Ветер всколыхнул верхушки деревьев, и они закачались, как лодки на волнах. Горели приветливо огни в окнах домов.
Житеслав решил переночевать у Онагоста, а там посмотрит, как пойдёт. Он имел на руках рецепт и нужные травы, и Онагост просто не мог его не впустить.
После дождя дорогу развезло, и сапоги утопали в грязи и лужах. Рясу пришлось подтягивать вверх, чтобы не замочить и не замарать полы. В таком виде Житеслав наверняка походил на госпожу, зрелищно и красиво сбежавшую из-под венца холодной сырой ночью.
«Как баба».
Житеслав мотнул головой, прогоняя мысли. Наверняка ему ещё долгое время будет сниться этот нож, но не в двери, а под рёбрами. Так всегда и бывало, когда он переживал сильное потрясение.
Пошарив рукой в кармане, Житеслав выудил серьгу. Ту самую, отданную девчонкой перед сожжением. Недолго думая, Житеслав просунул её в дыру в губе, застегнул и ощупал место. На удачу по пути попалась лужа, и он с опаской посмотрел на своё отражение. Как ни странно, украшение не выделялось, не казалось чем-то чужим, а даже наоборот, будто всегда было здесь, на лице. Боремир бы обрадовался, увидев его с серьгой. А может, и выкинул бы какую-нибудь шутку.
***
День клонился к вечеру и пора было искать место для ночлега. Онагост не мог определить, насколько далеко он забрёл в лес и где ближайший тракт. Он с усилием вглядывался вглубь чащи, смаргивая подступающие слёзы. После вечера и утра, проведённых в скорби и рыданиях, глазам было больно смотреть на свет, будто в них насыпали песка. От душного смолистого запаха щипало в горле и горели лёгкие, и Онагост боялся сделать лишний вдох, чтобы вновь не согнуться от всепоглощающей боли.
Чем ниже солнце садилось за горизонт, тем тревожнее становилось идти. С приходом ночи в лесу пробуждались духи, такие, которые уводили глубоко в чащу к колдовским кострам, поили своими дурманящими напитками, а затем забирали разум, и человек забывал себя, превращаясь в пустую оболочку, что тут же норовила заполнить Навья тьма. На своё счастье Онагосту не доводилось встречаться с такими оболочками, но, по слухам, даже в деревне Желтоворота проживали чьи-то некогда пропавшие близкие, мучающие семьи своим диким и непонятным поведением. От одной мысли, что твой сосед на самом деле мог оказаться «потерянным» холодело нутро. К слову, у Потерянных его — нутра — не было, лишь чёрная с золотыми прожилками тьма, густая, как смола, и прозрачная, как чад над костром. Разруби такого несчастного, и окатит тебя вороньим криком и прикосновениями утопленниц.
Онагост потряс головой, прогоняя мысли. Нельзя на ночь глядя о таком думать, иначе нагрянет это «чудо», и никаких чар не хватит, чтобы отбиться.
Вдалеке слышался плеск. Неужели река? И наверняка Маковая. Если пойти вдоль неё, то можно выйти к поселению... И кто примет на ночь рыжего беглеца? Проверят сразу, подсунув искрящуюся воду, и выдадут Белочникам. Хотя вот Боремир не стал его убивать.
Онагост усмехнулся. Боремир. Сжигатель и головорез, из-за которого вся его жизнь покатилась в бездну. Как других убивал, так и сам сдох. Ну и поделом.
Река шумела всё ближе, и скоро Онагост вышел к отлогому берегу, поросшему низкой травой. Высверки на воде от последних пойманных лучей заката резали глаза. Вдоль берега высился рогоз по плечи парню. Сторона напротив была усеяна мелкими жёлтыми цветами, будто нарочно рассыпали бусины, а берёзы качались на несильном ветру. Здесь, у воды, дышалось легче и было не так жарко, даже прохладно. Где-то далеко начинали квакать лягушки, затягивая свою дробную песню.
Хорошее место, чтобы утопиться.
Онагост скинул сапоги, размотал онучи и с наслаждением окунул ноги в воду. Бережок был песчаным, точно кто-то нарочно высыпал на землю и тину под водой песок.
Здесь парень и заночует.
Перво-наперво Онагост выудил из пестеря скрутку из полыни, крапивы и чертополоха. Щелчком пальцев поджёг, подождал немного и задул, оставив пучок на подпорке из палок тлеть и источать дым. Может, это и мало помогло бы от Навьей гадости, но всяко лучше, чем полностью отдаться на растерзание. Жаль только, что этот дым не отгонял комаров.
Сложив небольшой костёр и раздув огонь, Онагост зачерпнул котелком речной воды и поставил кипятиться. Вынул пару мешочков с ломтями сухого мяса и овощей, закинул по горсти в закипевшую воду и перемешал ложкой, тоже припасённой. Несмотря на плохое самочувствие и беспамятство, Онагост умудрился-таки собраться достойно. На первое время ему хватит всего, главное, чтобы было место ночлега, и желательно с крышей над головой. Спать под открытым небом было не то что бы неудобно хотя бы из-за мошек, но опасно из-за зверей, духов и умертвий. Онагосту несказанно повезло, что по дороге его не убил какой-нибудь дух. Повезёт и в этот раз, если по его душу не нагрянет волк или медведь. Вот уж весёлая будет ночка!
Подобие похлёбки пахло маняще. Чтобы занять руки, Онагост принялся стругать из толстого сука зверушку. Ему бы в руки кусочек стали, раскалить его да выжечь тонким концом витые узоры на дереве. Такими он хотел украсить откос двери и оконные рамы, когда достроит дом. Но теперь дому не суждено быть отстроенным. Онагост не знал, вернётся ли когда-нибудь в деревню, в один миг ставшую ему чужой. Ни жилища, ни семьи, ни друзей. Один он остался на всём белом свете. Помрёт, так никто не похоронит по-человечески. Хотя Житеслав мог бы, он ведь даже помощь предлагал. Только стоит ли принимать помощь от близкого друга того, кто сломал жизнь их семье? Да и странный этот травник был, бледный и худющий. Мама говорила, что люди, имеющие дела со смертью, сами принимали её обличье. Вот и он, видимо, становился бледной тенью прежнего себя.
Вздохнув, Онагост отложил нож и выкинул фигурку в реку. Нескладный вышел заяц, таким только очаг топить. Зато, пока он возился с резкой, похлёбка успела свариться. Онагост снял её с костра, осторожно придерживая ладонью за крутой бок, и принялся есть прямо из котелка, нетерпеливо остужая каждую ложку — горячего совсем не хотелось, да и есть, собственно, тоже, но чувствовать дрожь в конечностях из-за голода, который он по какой-то причине не ощущал, ему надоело. Для вкуса не хватало только хлеба, но лишнюю тяжесть он решил не брать.
Скрутка с травами почти дотлела. Одному Промыслителю известно, защитила она хоть немного от злых духов или нет. Для надёжности Онагост решил помолиться, чего не делал уже очень много лет. Он с трудом вспоминал слова давно позабытой молитвы, махнул рукой и стал просто говорить всё, что приходит на ум. Если Бог есть, он поймёт его и без заученных слов. Главное ведь намерение.
Покончив с молитвой, Онагост перекрестился, непривычным жестом пересекая плечи, живот и вверх, к голове, взрезая вдоль верхнюю половину тела. Кто бы ни придумал это священное знамение, он наверняка просто насмехался над прихожанами, добровольно разделявшими себя на две части. Справа — печень, слева — сердце. Или сердце посередине? Впрочем, неважно...
Посидев ещё немного, Онагост вдруг вспомнил один из старых заговоров на помощь от старых же богов. Откуда Онагост его знал, если мама никогда не говорила о таких вещах, отдавая предпочтение упованию на себя? Неужели так повлияло родство с теми, кто оставил дитё умирать у кумирни почти два десятка лет назад?
Парень призадумался, глядя на воду, с которой нужно было совершить обряд. С одной стороны, просить защиту ещё у кого-то было хорошей мыслью, но с другой... Боги, как же ему опостылели все эти обряды! Один из таких унёс жизнь его сестрёнки, его Кристалины, Снежки. Но сейчас всё ближе кралась ночь, и кто знает, что может произойти.
Слова складывались в стройный хоровод, вынуждая произносить их вслух. Онагост даже пропел парочку, пробуя на слух звучание. Затем спустился к реке сполоснуть котелок и протереть от грязи пучком травы. Посуда осталась стоять в зарослях рогоза, и Онагост, покачиваясь, как ладья на волнах, подобрался к самой кромке воды. Снял сапоги для верности и оставил в стороне. Вгляделся в своё отражение, кривое, плывущее кругами.
— Речка-речка, спрячь человечка в своих тёмных водах до небосвода, — зашептал он.
Вода лениво лизала ступни, поверхность реки рябила от ветра. Онагост шагнул в неё, не снимая одежды.
— Речка-речка, помоги сердечку, схорони горе, как волка в загоне...
Холодная вода хлынула к коленям, бёдрам, животу. Рубаха отяжелела и прилипла.
— Речка-речка, закуй в колечко любовь человечью в помыслах вечных.
Холод сдавил грудь, но парень шёл глубже, не ощущая конечностей.
— Речка-речка, спрячь человечка, спрячь, кляня...
Онагост обернулся и бросил последний взгляд на лес.
— ...Да не тронь меня.
Вода сомкнулась над рыжей макушкой. В ушах зашумело, а грудь сдавило от нехватки воздуха. Онагост не успел вдохнуть толком, повинуясь какому-то внутреннему зову. И сейчас лёгкие разрывало, но было рано выныривать. Нужно заручиться помощью Богини рек. Она должна была подать знак, только какой? Что если Онагост его не заметит? Что если уже не заметил?
На руках проступили жилы и, как по проторённым тропинкам, по ним хлынул золотой свет. Вода вокруг парня тоже начала светиться, окутывая тонкими золотыми нитями, словно прозрачным коконом. Сквозь толщу воды донеслось пение, будто несколько десятков женщин стояли на берегу и тянули не то печальную, не то обрядовую песню. А нити кружили и растягивались, тянулись куда-то глубже в воду. Прошла боль в груди, казалось, что Онагост мог дышать под водой, но решил не пробовать — себе дороже.
Пение становилось всё ближе, и уже сама вода источала свет, будто кто-то вылил жидкое солнце в реку и оно растворилось, влекомое течением. Онагост ясно видел, как нити сверкали, как опутывали его пальцы, точно паутина, когда он касался их. Кто-то гладил его по голове, невесомо проводя тёплой рукой по макушке, и от прикосновений пошли мурашки. А голоса всё пели, пели и кружили, и уже не разобрать было, на берегу ли поют, в воде ли. Кто-то точно обхаживал Онагоста, трогая то в области живота, то сердца, то запястий и шеи, — прямо как знахарь тогда в детстве. Пытались стереть знаки? Но масла намертво въелись в кожу, и убрать их получится, только срезав с мясом эти места ножом.
Что-то проплыло совсем рядом, и Онагост различил слова в песне, но наречие было чужим, древним, даже древнее Новослави и этой реки. Онагост выпростал руку в попытке ухватить нечто, что гладило его и освещало воду.
Всё смолкло так же быстро, как и возникло.
Что же. Выходит, Богиня рек дала своё благословение. Теперь Онагост под её покровительством на эту ночь, а может, и несколько последующих.
Неуклюже вынырнув, отплёвываясь от воды, Онагост стянул мокрую рубаху и выжал. Да-а, поспешил он, конечно, когда нырнул прямо в одежде. Хорошо что костёр ещё не потух. Хотя время было позднее, пора бы и спать ложиться. Ну ничего, сам виноват, сам ошибку и исправит.
Его самого бы кто исправил. Перекроил жизнь, разрезав или разорвав — нет, всё-таки лучше разрезав — на кусочки. Убрал драные ошмётки и поставил заплатки. Тогда бы, может, и по-другому всё сложилось. И не сидел бы он сейчас мокрый и одинокий в лесу.
На глаза опять навернулись слёзы. Да что же это такое, думал Онагост, почему нельзя просто взять и закрыть все чувства на тысячу замков, как когда-то закрыли его силу?
А затем от догадки его бросило в дрожь.
«А не будет ли так же больно от закрытых чувств, как от запертой силы?»
Нет уж, пусть он лучше льёт слёзы сколько душе угодно. Это временно. Раньше Онагост плакал крайне редко, это сейчас его что-то подкосило. С того дня, как он высказал Кристалине всё, что успел надумать, а потом чуть не прожёг ей плечо.
Да, с того дня всё и пошло прахом.
Может, на самом деле Онагост виноват во всех бедах? Не заикнись он о смене жизненного уклада, может, и не случилось бы ничего. Промыслитель понял его речи слишком прямо. И кто только за язык тянул?
Онагост тряхнул головой, прогоняя мысли. Вещи он решил высушить собственноручно, держа в пол пяди и нагревая, пока от ткани шёл пар. Наконец он надел сухую рубаху и порты, подкинул в костёр ещё брёвнышко и улёгся рядом, положив под голову руку. Звёзды заговорщически перемигивались, будто знали что-то, чего не знал Онагост.
Не знал он, конечно, о многом.
***
— Колдун!
Вопль раздался внезапно, а затем кто-то подхватил под локти и развернул к себе. Перед Житеславом стоял низкорослый мужичок с тёмной семидневной щетиной. Серая рубаха, поверх — полосатая жилетка с тёмными пятнами грязи. Мужичок хватал рукава Житеслава и всё лопотал что-то неразборчивое. Наконец выдохнул:
— Колдун...
Пахнуло брагой, и Житеслав понял, что мужик пьян — напомнило отца. Его передёрнуло.
— Ты где колдуна увидел, пьянь? Иди проспись, — отрезал Житеслав, развернулся и поспешил прочь.
— Ну как же, — нагонял его мужик, — как же так, ты же колдун!
— Если я — колдун, то ты — княжья суложь, — взмахнул рукой Житеслав. Любопытно, ускорь он шаг, мужик упал бы и отстал?
Пьяница надсадно дышал сзади. Наконец он захрипел и остановился. Начал кричать что-то про больную жену и детей, про гнилые посевы и шум по ночам, пока не зашёлся воем.
Житеславу не было его жаль, как и не было жаль всех чужаков, что попадали к нему на стол. Пьяный вой остался далеко позади, и перед глазами открылся широкий тракт, справа огороженный лесом, а слева — полем. Идти пешком было последним, о чём он мечтал сейчас. Ноги и так ныли от постоянной ходьбы, а голова шла кругом от недосыпа, ведь в эту ночь Житеславу так и не удалось поспать. Кто-то неустанно выл за окном и скрёбся в стены, и были то явно не волки. Дикие собаки — вполне, стаю таких Житеслав встречал днём ранее.
Что он забыл в этой деревне, куда Промыслитель носу не кажет? По его подсчётам, сейчас должен быть второй день, как Житеслав помогает с домом Онагосту.
Должен быть. Но не был.
Рыжего чародея не оказалось дома. Что с ним сталось? Забрали Белочники? Сам утопился или вздёрнулся на суку в лесу? Если это так, то пусть боги упокоят его грешную душу. Потому что только Навь примет блудного сына, перемелет и выплюнет в новом обличье, но духом или умертвием — никто не мог знать.
Раз даже в погорелом доме не удалось схорониться, Житеслав решил бежать куда глаза глядят. Отец всё насмехался над ним, что, мол, траву его только крутить да раскуривать. Вот только его простая трава приносила денег больше, чем очередное сожжение или погребение в курган. По крайней мере, в той деревне, из которой Житеслав убегал сейчас, как вор. Хотя не украл ничего.
На самом деле и тащить с чужих тризненных столов еду ему совершенно не нравилось, потому в такие мгновения Житеслав гасил любые чувства и просто делал. Но краденая еда не приносила столько удовольствия, сколько купленая на честно заработанные деньги. А уж тем более украшения, которые, к слову, так любила его мама, но отец распродал их на ярмарке вместе с дарами, что отдавали скорбящие семьи за своего погребённого близкого. Избавился, как от мертвецкой безделушки. Конечно, Житеслав понимал, что за них люди отдали немалые деньги и что эти же деньги помогли им пережить зиму, но горькая обида за маму брала верх всякий раз, как он об этом думал.
Было раннее утро, и потому деревня гудела, как большой улей. Кто спешил на утреннюю молитву, кто собирался в город на ярмарку, кто снаряжал посыльного с исписанной берестой. Люди только пробудились ото сна, а уже работали во всю прыть. И так было всегда. Только семья Житеслава не была причастна к общему жизненному укладу.
С самого детства он помогал отцу, а позже, став постарше, и сам принимал людей. Днями и ночами они вдвоём ходили по окрестностям и собирали умерших, потому для них не было разницы, когда расцветало утро, ведь для них работа могла начаться в любой миг. Отец учил Житеслава, как лечить и латать ран ворожбойы, какие слова шептать над порожней, едва скинувшей дитя женщиной. Учил маленьким хитростям и вырывал из цепких пальцев корешки, которые Житеслав порой срывал с потолка — пучки с травой туда вешала мать. Житеслав искренне не понимал, за что отец так ненавидел травников, но чтил знахарей, когда его колдовство — если его так можно было назвать — не смогло уберечь маму. Даже наоборот.
Поначалу Неждана никак не показывала, что что-то не так. Ходила, как обычно, ела и пила со всеми вместе, убирала дом и стряпала, но однажды её охватила сильнейшая судорога. Мама чуть не опрокинула на себя чан с кипятком, но крепко обожгла ладони, которыми обхватила края посудины. С тех пор судороги её больше не покидали, а вместе с ними пришли и другие недуги. Мама всё чаще сидела без дела, плохо спала, а если ей удавалось поспать, то вскакивала от страшного сна и таращилась в темноту. Часто женщина что-то бормотала, разговаривала со стенами и горшками, могла гладить невидимую кошку. К Житеславу она оставалась добра, но вот отца ни в какую видеть не хотела, а если он появлялся перед глазами, то женщина начинала злиться и кричать, что он испортил ей всю жизнь, могла кинуться на него с кулаками. Отец тогда ничего не говорил, лишь уходил ночевать в сарай. И так продолжалось до тех пор, пока Неждана не начала днями напролёт танцевать и петь обрядовые песни на лугу, собирая огромные копны трав. А затем она пропала. Не вернулась домой в один вечер. Зато вернулся отец и довольный лёг спать на мягкую подстилку на печи, а не старый соломенный стог сена. Житеслав тогда проворочался до утра, так и не сомкнув глаз, и даже на миг испугался, что и сам стал таким же, как мама.
Конечно, женщина потом нашлась. Конечно, Житеслав понимал, что с ней случилось, а главное, кто так зверски надругался над телом.
«Духи забрали её разум», — шептались соседи.
«Страшнее духов может быть только плохой муж», — рассуждал Житеслав.
Но прошлое должно оставаться в прошлом, ведь впереди его ждали долгие дни скитаний от дома к дому. Житеслав всерьёз намеревался уплыть на торговом судне в Лидзению, если в Новослави жизнь не задастся.
Житеслав уже привычно провёл языком по серьге. В последнее время он перестал её замечать, будто украшение было с ним всегда, а спустя пару дней стало неотъемлемой его частью. Глядя в редкие отражающие поверхности, Житеслав заметил, что с серьгой его лицо стало более таинственным. Жаль, Боремир не услышит шутку, что его друг стал карпом, ведь на кольцо запросто можно нацепить крючок и дёрнуть. Вот только эта рыба не даст над собой надругаться.
***
Боги-боги, угораздило же его так заблудиться. Проводить третью ночь под открытым небом Онагост не собирался. Да только выход из леса найти всё не получалось. От досады он пнул старый пень, и тот, трухлявый, проломился и разлетелся на древесные осколки, осыпав крошкой траву. Единственное, что спасало — близость реки. Вода не закончится, значит, он не умрёт. А примета «иди вдоль берега и выйдешь к поселению» не работала. Леший бы эти приметы побрал.
Ночь наплывала быстро, волнами накатывая на лес, укрывая сырым молочным туманом хвою. Тропинки не было, и Онагост боялся заплутать. Повезло что это был не прилесок возле города: после весенних паводков земля там стала жидкой, а лес — болотистым. Он поднял взгляд вверх, в прореху между деревьями. То, что поначалу он принял за сумерки, оказалось густыми тучами. Небо стало низким, набрякшим. Ещё немного, и хлынет ледяной поток на землю.
Время построить какой-никакой навес из веток ещё было, но Онагост не хотел тратить его на такой пустяк. Промокнет так промокнет, ему не впервой. А чувство близости жилища не покидало и гнало вперёд. Ещё подгоняло чувство присутствия скверны, чего-то тёмного и опасного. Будто за поворотом ждала Морана или её чёрные выродки.
Смешно, подумал Онагост. Богине не было дела даже до простого народа, что уж говорить о чародеях, от которых отказалась сама Навь и Боги. Никому парень не нужен.
Лес будто нарочно выстраивал деревья в линию, ведя куда-то вглубь. Может, Леший вздумал поиграть, замучить. Нечасто к нему захаживали случайные путники. По поверьям, которые Онагост слышал на вечорках от других парней, никто никогда не бывал в глубине леса. Потому что в самом его сердце находилась низкая землянка, а в землянке той жила ведьма, и сколько лет ей было — одному Промыслителю известно. Её дом стоял на перепутье двух миров, Навьего и их, мира яви. Потому и подступали к дому с одной стороны могучие сосны, а с другой — берёзы. И частью этих берёз была Роща скорби, деревья которой когда-то были женщинами, скорбящими по погибшим в воинах мужьям и сыновьям. Такую сказку однажды он услышал от друзей.
Слушал Онагост это всё, а про себя думал тогда, как же люди это всё могут знать, если ни один человек в сердце леса попасть не может? Брешут ведь, брешут, а девчушки и рады пыль вранья глотать.
Вот и Онагост никак не мог там оказаться, как бы лес морок не наводил. Видения подсылает, мол, гляди, вдалеке мелькнула тёмная покатая крыша да в окне будто огонёк мелькнул. Смеётся, издевается над ним. В дом к старухе только мёртвый или ещё кто, знающий тёмные чары, попасть может. Онагост не являлся ни тем, ни другим.
От тумана волосы вились и лезли в лицо, липли к вискам и мокрым щекам. Онагост ярился, убирал пряди за уши, но те продолжали колоть и щекотать. Только выдержка не позволяла ему укоротить волосы, хоть и был Онагост приметным из-за того. Рыжих людей в Станецке и окрестных деревнях по пальцам одной руки можно пересчитать.
Онагост не заметил камень и налетел, повалился вперёд, на руки. Он громко выругался, поднялся и отряхнул колени. Ладони саднило, и Онагост поспешил прижать их к штанам, впитывая кровь. Не хватало ещё, чтобы запах привлёк какую-нибудь тварь.
Стоило Онагосту сделать пару шагов, как он чуть не свалился в яму. Выругавшись в очередной раз, он собрал немного тепла, что осталось в деревьях с солнечного дня — хотя чувствовал тепло от ямы, - подсветил дно вспыхнувшем в руке огоньком, подрагивавшим от напряжения. И, вскрикнув, отпрянул.
В яме лежали мертвецы. Поначалу Онагост подумал, что они живые, потому как шевелись, но, приглядевшись, понял, что двигались черви. Полная яма трупов посреди леса. Мама говорила, что бояться надо живых, а не мёртвых, но не обговаривала, стоило ли бояться целой ямы мертвецов?
Поборов отвращение и страх, Онагост снова подполз к яме, уже не таясь осматривая трупы. В огоньке на ладони кровь из ранок стреляла вверх искрами, отлетала хлопьями золотого пепла.
Судя по внешнему виду, лежали трупы здесь не меньше месяца, но почему не было запаха тухлой плоти? И откуда, леший бы вас побрал, эта яма? Кто скинул в неё груду мёртвых? Кто эти люди? И не грозила ли та же участь Онагосту, если он задержится здесь ещё на мгновение?
Страх сковал тело. Огонь в ладони мигнул и погас, осыпав искрами тленные останки. Надо было убираться отсюда как можно скорее. Онагоста волновала не столько близость мертвецов, сколько возможность обнаружить их убийцу. Подхватив пестерь, он обошёл яму, стараясь ступать как можно тише — насколько вообще имело смысл соблюдать тишину после громкой ругани и падения.
Туман сгустился настолько, что Онагост перестал различать, куда идёт, потому вытянул руку вперёд, чтобы вовремя обогнуть дерево. Сквозь лесные запахи — ягоды, хвоя, сырая земля и болиголов — он вдруг отчётливо различил чад костра. И если лучину назад Онагост со всех ног ринулся бы в сторону огня, то сейчас он едва ли двинется к стоянке. Не хватало ещё оказаться в этой самой яме. Червей кормить он будет много позже. Но чем дальше Онагост старался отойти от огня, тем ближе лес подводил к нему. Парень заскулил, когда понял, что встречи с чужаком не миновать. Значит, надо быть готовым выйти из схватки, и желательно победителем.
Из тумана потихоньку выступали очертания избушки. Боясь своей догадки, Онагост всматривался вдаль, надеясь не увидеть берёз, хотя сосны вокруг него были не такие уж и могучие.
Небольшой домик стоял на отшибе леса. Сосны тут не переходили в берёзовую рощу, а резко обрывались, будто кто-то сшил два разных куска ткани воедино, и вторым куском было широкое поле. Избушка не была похожа на сруб: добротно сложённая, в ней могла бы поместиться семья из нескольких человек. Хозяина не было, либо он спал — это Онагост понял по тёмным окнам. Близость домашнего тепла манила, и он рискнул толкнуть дверь, не заботясь о том, что внутри кто-то может находиться.
В доме действительно никого не оказалось. Печь была еле тёплой, на столе стоял горшок с остатками еды. Оружия в доме не было, но, кто знает, может, снаружи стояла пристройка, которую Онагост не заметил? Всюду висели пучки трав, макушки каких-то были обуглены. Стены украшали серые льняные полотна с угольными рисунками домов и людей. В чертах одной из женщин, которой живописец выделил отдельное полотно, Онагост подозрительно узнавал Любицу. Наверное, ему просто нужно поспать.
Сев на лавку и подперев щёку рукой в ожидании хозяина — кем бы тот ни оказался, — Онагост продолжил рассматривать убранство горницы. Вот полки с посудой, местами горшки имели сколы. Вот мешки с мукой, красный угол, бочки. Коробы, укрытые светлым отрезом и перетянутые верёвкой. Пахло в доме теплом, варёной рыбой, сладкими травами и сыростью, — последним, наверное, тянуло из окна, потому что в следующее мгновение небо разрезал золотой всполох, тучи раскололись, и на землю хлынул дождь. Капли дробно застучали по крыше, и Онагост не заметил, как уснул. А когда проснулся от того, что голова повалилась с ладони и он ударился лбом об стол, то обнаружил и хозяина дома.
Онагост насторожился, глядя на мужчину в коричневой косоворотке. Тот был крепким, широким в плечах, с бородой до середины шеи и волосами до плеч цвета медвежьей шерсти. Он проворно хлопотал у печи, скидывая нарезанные овощи в горшок, и что-то тихонько напевал.
Сколько Онагост проспал? Дождь ещё лил, громко стуча по крыше и окну. Как же это он не услышал, когда мужчина пришёл? Онагост ещё раз взглянул на него и покашлял, привлекая внимание. Тот не обернулся, продолжая крошить морковь. Парень сник и задумался, не поздно ли ещё улизнуть?
— А, проснулся, — сказал мужчина, слегка обернувшись, и хохотнул. Голос у него был глубокий, с хрипотцой, будто в густом киселе перестукивались стальные камешки, даже откашляться захотелось. — А я уж думал, всё, сморил тебя лес, до полудня так просидишь.
Брови густые и широкие, как две шишки, и глаза под ними сверкали голубыми каменьями, какие бывало привозили на торг купцы с севера. Странные глаза, вроде и добрые, но исходила от них пугающая твёрдая мощь. Захочешь уйти — не отпустит.
— Из каких мест сбежал, парень?
Мужчина продолжал помешивать что-то в горшке, насыпая щепотью травы, которые срывал с потока. Оторвался и вопросительно вскинул бровь, видимо, ожидая ответа. Онагост стушевался, но отозвался:
— Из Новослави.
— Точнее, — серьёзно сказал мужчина и указал подбородком на пестерь. — И что везёшь с собой?
Много ли мест в Новослави, откуда можно было прийти в эти края? Станецк, город из белого камня. Лисий ход, ещё один городишко на пути к Восточному берегу. Липовая слобода с её выкрашенными в красный маковками собора. Но, наверное, стоило говорить правду, потому что где-то позади, на тропе, осталась яма с трупами. Онагост нервно сглотнул.
— Из Желтоворота я. Деревня такая.
Мужчина задумался, кивнул своим мыслям и взмахнул рукой в сторону пестеря. Онагост перечислил немногое из того, что он нёс, и лицо хозяина смягчилось, в уголках глаз появились морщины. Любопытно, сколько ему было лет? Десятка четыре, не меньше. В бороде и волосах проглядывали редкие серебряные нити. А как же его зовут? Онагост спросил.
— Видогост, — хитро ухмыльнулся мужчина.
Онагост сощурился, не веря своим ушам, отстранился от стола. Ещё раз бросил взгляд на отрез с женщиной, похожей на его маму.
— А ты, стало быть?..
— Онагост, — представился парень.
— Похож, — сказал Видогост и развёл руками. — Что же, гость так гость. Я ведь тоже своего рода чужак в этом мире. А ты чей сын будешь?
— Да имеет ли это значение...
— Имеет. — Видогост присел рядом на лавку и подцепил пальцем ворот рубахи Онагоста. Тот отшатнулся, не давая чужаку себя коснуться. — Любопытные узоры. Мама шила? — Онагост кивнул. — Да-а, веточки мятлика. Она очень любила эту траву. А ещё только она вшивала в их россыпь зёрнышек сердца. Я тогда смеялся, мол, баловство. Ну какую защиту может дать сердце? Но на то она и Любица, что любовью оберегает.
Онагост удивлённо распахнул глаза, медленно выдохнул:
— Ты...
— Я, — рассмеялся Видогост.
Уже можно было сложить два и два.
— Н-но как это возможно? Ты же умер! Погиб в пожаре со всеми чародеями.
— А я смотрю, наслышан ты обо мне и всём, что творилось.
Видогост нахмурился, задумавшись о чём-то своём. Постучал ногтем по столу.
— Стало быть, знаешь, что я чародей земли?
— Стало быть...
Онагост не мог поверить своим глазам. Человек, который спас его мать. Человек, благодаря которому он сейчас сидел здесь, а не кормил косточками кротов. Немыслимо! От волнения голова пошла кругом, стало душно, и, обхватив ладонью лоб, Онагост пролепетал, что ему нехорошо.
— Бывает, бывает. — Видогост похлопал его по спине и глянул в сторону печи. — Давай так. Я дам тебе кров и еду, а ты мне расскажешь, что стряслось с тобой и как поживает Любица.
Онагост вздохнул.
— А у меня есть выбор?
Видогост хитро улыбнулся и вымолвил:
— Нет, сынок.