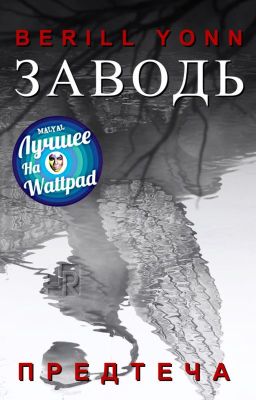Муравейник
Печёночной желтизны луна, лениво растекаясь в своём мутном ореоле, заглянула в окно. Окна – рваные раны ночи – и луна, обмордевшая в свою полную фазу, устала показывать заинтересованность, заглядывая в них. В новом окне она пропустила мимо пустую кухню, потому что в кухне ничего не происходило, и поплыла дальше, пока в прихожей той квартиры открывалась дверь. Рассеянно-чернильная темнота парадной таила в себе чёрный абрис – это Мелихов, как всегда, пришёл среди ночи и принёс две бутылки пива, купленные в круглосуточном магазинчике у продавщицы, которая легко покупается на комплименты.
– И что за пг'елести ты наговог'ил ей на сей г'аз? – вздохнул Смирнов, разрешая ему пройти в квартиру.
Мелихов был необычайно сумрачен. Пробормотал что-то нечленораздельное в ответ, вручил бутылки и принялся разуваться, путаясь пальцами в наглых шнурках – руки у него дрожали.
Скорее всего, но однажды выпивка доведёт его до постоянного тремора в руках. Если до тех пор он ещё будет работать в морге, то рискует сильно порезаться и умереть от гепатита или сепсиса – или чего ещё, какая зараза передаётся с кровью.
Сейчас у него руки трясутся от нервов.
– Сёдня Ирину убили, – объявил он, заваливаясь в кухню.
– Я знаю, – вкрадчиво отозвался Смирнов у него за спиной.
Мелихов обернулся, удивлённо взглянул в его лицо, по белизне подёрнувшееся желтизной натриевого света.
– Откуда?
Он поставил бутылки на стол, и доньями они прилипли к старой потёртой клеёнке, а сам полез искать среди звенящих приборов открывалку. Мелихов следил за ним, дожидаясь ответа или объяснения, своими жуткими по-рыбьи неподвижными глазами, смотрел, как мельтешат его локти, колышется на плечах заношенная футболка. Казалось, никогда не найдётся эта открывалка – и Мелихову придётся вечно смотреть так, медленно умирая от нетерпения.
Руки Смирнова двигались, как руки пианиста, быстро и чётко, пока он перебирал и перекладывал с места на место ножи, ложки, вилки.
Мелихов ждал.
– Валентин, – начал наконец Смирнов, оборачиваясь, и протянул открывалку, - г'аботает со мной. Он же её бывший муж. Ему сегодня как г'аз звонили из полиции и сказали быть на опознании.
Ты сам как?..
Мелихов плюхнулся на шаткую табуретку, и ножки под ним жалобно скрипнули.
– Нормально, – протянул он, глядя на свои пальцы, отплясывавшие на запястье левой руки. – Жив, как видишь...
Бутылки со вздохом открылись, потянуло тонким хлебно-солодовым ароматом. Смирнов взял бутылку за горлышко и сел напротив Мелихова, вперил в него грустный сочувственный взгляд, вновь протягивая ожидание. В конце концов, Смирнов всё равно должен спросить – как всегда, как есть, в лоб:
– Скажи честно: ты знаешь, кто это сделал?
– Конечно, – сдавленно вздохнул Мелихов, и пальцы его замерли.
– Кто же?
Он отвернулся, склонил голову. Плечи его вновь поднялись в зажатом в горле судорожном вдохе. Он ощущал на себе этот неприятный, похожий на покалывающую октябрьскую морось, взгляд и чувствовал, как Смирнов вытягивает из него ответ – совсем как сегодняшний следователь.
Месть.
Мелихов ещё раз вздохнул, тряхнул головой.
– Да есть дядька там один... – поднял на Смирнова безумный взгляд. – Гриня, тебе же можно доверять?
Смирнов сидел неподвижно, держал одну руку на колене, а взглядом говорил: да, можно, конечно...
– Так вот, собственно, что... ты же знаешь, Гриня, что там же тот работает. Ты знаешь, мне кажется, что он что-то удумал. Он говорит покрывать того дядьку и сам покрывает. Гриня, – голос Мелихова сорвался на болезненный хриплый визг, – он же убьёт меня! Он убьёт меня, тебя! Он всех убьёт!
Наблюдавшая в окно мертвенно-неоновая луна зажигалась интересом и медленно подплывала ближе, чтобы рассмотреть лучше, но предательский туман застил ей взор. Много окон повидала она на своём веку – и за каждым под разноцветным занавесом разыгрывались разные драмы и не происходило ничего. Для луны, если бы под её корой был разум, всё земное было бы ничего – пустое копошение в огромном муравейнике.
Муравейник: Мелихов обхватил голову, на углу стола стоит пивная бутылка – всё так бессмысленно, но не хочется умирать и видеть чужие страхи тоже не хочется. Это Смирнов смотрит на него холодным взглядом луны – мутной монеты самоварного золота – и сам видится совершенно вне холодного космоса, как будто ему действительно так всё равно.
В стекло зловеще скребутся облезшие костлявые ветки каштана – Мелихову кажется, они тянутся к его горлу. Мелихову кажется, он сходит с ума. Он боится застывшую за окном стеклянную темноту, боится гипнотически зависшую луну. Он не хочет видеть их – закрывает глаза. На обратной стороне век он повалился на пол и, до крови вцепляясь ногтями в скальп, начал кататься, собирать спиной сор с липкого пола, в тяжёлой одышке повторяя одно и то же: господи, господи, господи... Голова кружилась. Стены, пол, потолок плыли нечёткой мозаикой, а смальтовая синь за окном порастала дорожками трещин и всё грозила расколоться. Лишь на дыбившемся истресканной краской подоконнике покоился белый кубик сахара, а на табуретке спиной к окну неподвижно сидел Смирнов с бутылкой тёмного стекла и последний не был стеклянным в остекленевшем, как глазные яблоки мертвеца, мире.
Всё это происходило в голове у Мелихова, когда он сам сидел на табуретке. Ощущения были до того отчётливы, что он и вправду считал себя катающимся по полу и одновременно сгорал со стыда перед Гриней. Привыкнув так внезапно проваливаться в видения и не отличать их от реальности, он всё ещё смертельно стеснялся других людей. Между тем он мечтал избавиться от той сущности внутри себя, от чьей памяти зачастую происходили его жуткие галлюцинации, и его очень раздражало то, что когда однажды он не придёт, Смирнов добровольно ляжет на пол и закроет глаза, а во рту у него будет медленно растворяться кубик сахара, пропитанный раствором диэтиламида d-лизергиновой кислоты. За это Мелихов хотел бы наброситься на него, вцепиться ему в ворот и повалить на пол – но вместо этого нелепо улыбнулся с деланной беспечностью и махнул рукой со словами:
– Опять глюки, – тем самым становясь сам похожим на Смирнова.
Смирнов почесал подбородок, искоса глядя на Мелихова, на его до безобразия крупные черты лица, на безумно неподвижные карие глаза. Эти глаза – пугают.
– Ладно, – наконец сказал он, как если бы прерывал молчание, в котором до того Мелихов ничего не говорил. – Что ты будешь делать? в полицию пойдёшь? От полиции толку никакого не будте: никто не повег'ит. Что мы сами можем сделать?
– Найти кольцо? – отрешённо предположил тот, но тут же одёрнул себя: – А оно вообще надо – делать? Что делать? ничего! Всё равно все помрём. Как бы ты ни стремился в рай маковый, всё всегда кончится одинаково!
– Экспг'омт? Что ж, всё-таки: а зачем тогда жить, г'аз уж ничего не делать? Ты начинаешь отчаиваться, это понятно, но Г'омыч, это далеко не конец. В любой ситуации можно что-то сделать для наименее плачевного исхода. Я обязательно помогу, сделаю всё, что в моих силах.
Так что это за кольцо?
– Да ничего особенного, – подёрнул Мелихов плечами, – брюлики какие-то. Тот дядька его с трупака снял, а потом потерял, оно закатилось куда-то. Ирина-то его за этим и застукала – вот и получила, видать.
– С кольцом что? – подводил Смирнов.
– А кольцо... что оно? его Кукловод подобрал и себе забрал.
Тогда Смирнов задумался, дав Мелихову время сделать глоток пива.
– Ты знаешь, как оно выглядело?
– Ну так...
Смирнов выжидающе поглядел на него.
– Да совсем просто как-то: серебряное такое, с какими-то бриллиантиками по периметру... – припоминал Мелихов. – Не знаю, я не ювелир. Не разбираюсь.
Его собеседник улыбнулся.
– Я хочу тебе помочь.
Так он обнадёжил Мелихова, который всё равно вскоре возвратился к мысли о том, что всё всегда кончается одинаково. Даже после того, как поутру Мелихов покинул этот дом, в парадной в пролёте между лестничными маршами осталось написано его рукой:
Он не помнил, какого чёрта
С ним случилось всё то, что было
В сером мраке вонючих комнат,
Где готовы верёвка и мыло.
Там послушные нервные руки
Надевали на шею петлю
И блуждал одинокий лучик
Как прелюдия к злому рассвету.
Умирали миры за мирами,
Гасли звёзды и гасли планеты,
И глаза его гасли зелёные,
Отдаваясь в стакане с абсентом.
И не знал он, какого чёрта
Всё так медленно блекнет и тлеет,
И не слышал он, как безысходность
В безысходности жалобно блеет.
Уж не знаю, какого чёрта
Я подумал сегодня об этом,
Заблудившись в табачном дыме
На границе с кровавым рассветом.
А ещё он пересёкся с Алисой. Алиса поздоровалась с ним и хотела бы попросить помочь донести очередные пакеты, но Мелихов не обратил на неё внимания. Голова его была занята мыслями о предстоящей работе и сопряжёнными с ними мыслями о неминуемой смерти. Ему показалось, что если смерть так неотвратима, то, может быть, не стоит затягивать, ждать её, а стоит просто готовить себе удавку?.. Тогда тоже надо будет решаться встать на какой-нибудь табурет, чтобы потом вытолкнуть его из-под ног.
Он остановился, задумался, оглядываясь на закрытую за ним дверь: ведь всегда можно прийти к тому, кто за этой дверью, рассчитывая на его помощь. Сейчас он в мучениях мечется от одного конца извечного вопроса Гамлета к другому и ищет тот единственный его полюс, у которого можно остановиться, и не желает вспоминать, что за монолог следует дальше. Как бы там ни было, но страшная сущность в нём запомнит даже то, с какой болью верёвка будет сжимать горло, но всё же...
На извёстке, снизу граничащей с зеленью, на извёстке в парадной, окрашенной акварелью рассвета за окном, осталось, написанное той же рукой, что и пять горестных четверостиший:
...To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
hat flash is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd...
William Shakespeare